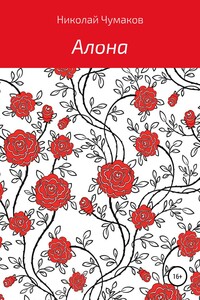Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова. Рассказы | страница 80
— Божественная, — закричал он, — отойдите от двери, простудитесь!
Он осторожно расстегнул шинель и достал из-за пазухи попугая. Полупридушенная птица испуганно дергала головой и трепыхалась. Екатерина Алексеевна захлопала в ладоши.
— Что это? Боже, что это?
Белолобов стал уверять, что попугай говорящий, и после долгих усилий, действительно, в его невнятном щебетании мы не без труда различили vita brevis, ars longa.[22] Вспотевший от усердия Белолобов был совершенно счастлив.
— Вы не поверите, господа, три месяца долбил с ним одно и то же, три месяца!
Помню, в один вечер Екатерина Алексеевна была не в духе, сидела грустная, скучная, куталась в шаль и ни на кого не смотрела. Белолобов сказал, что знает средство победить ее хандру.
— Господа! — закричал он, вскочив на стул. — Мы сейчас устроим tableaux vivant![23]
Оставив Екатерину Алексеевну в одиночестве в гостиной, мы вышли в пустую столовую и стали совещаться. В конце концов решили изобразить «Мать Гракхов». Белолобов настаивал, чтобы матерью был Орехов, но тот наотрез отказывался. Он вообще терпел все эти затеи, что называется, со скрежетом зубовным. В конце концов его уломали. Белолобов велел комнатной девушке принести простыни, и мы стали наряжаться.
Несколько раз Екатерина Алексеевна принималась стучать в дверь:
— Ну, скоро вы там? Да пустите же! Боже, чему можно так дико смеяться?
Белолобов бросался к дверям.
— Еще мгновение, Екатерина Алексеевна! Минуту терпения, только минуту!
Наконец, краснея, хихикая, прячась друг за друга, мы вышли в гостиную. Там ее не было. Только сползла при нашем появлении с кресла на пол, будто живая, оставленная шаль.
Комнатная девушка сказала, что у Екатерины Алексеевны разболелась голова и что она больше не выйдет.
Разошлись молча, не глядя друг на друга. Белолобов был обиженный, злой и когда срывал с себя одеяние Гракха, разодрал кожу на руке о булавку.
Иногда с Екатериной Алексеевной было легко, но часто на нее что-то нападало, и она делалась невыносимой. Она жаловалась, что зимой все время зябнет и никак не может согреться в этом городе, где сугробы да кабаки, в церквах сырость и холод. В такие дни она становилась капризна, позволяла себе безобразные вещи. Помню, как при мне, лежа на диване с платком на лбу, она выбила у горничной стакан с водой, которая показалась ей теплой, и стакан разбился вдребезги на паркете. В такие минуты это был совсем другой человек, от нее веяло холодом, она отталкивала, пугала. Движения ее становились нервны, слова резки, злы, и рядом с ней делалось тревожно, неуютно.