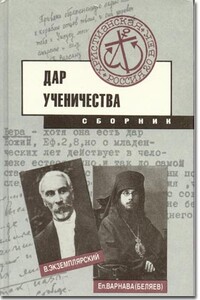Христианство и китайская культура | страница 82
говоря: «Ты есть я и я есть Ты»? [Ricci 1985, [209], с. 204/205].
На слова китайского собеседника о важности Будды и древних мудрецов, понявших значимость собственно индивидуального сознания и 01цутивших присутствие в нем всего мироздания, принимавших участие в его сотворении вместе с Небесным Господом, западный ученый ответил весьма резко: «Будда не понял самого себя, как же ему понять Небесного Господа? Ничтожный [в маленьком теле], он воспринял свет Небесного Господа, и, обладая некоторыми способностями и порученной ему миссией, он стал хвастливым и возгордившимся, возомнив себя равным по почету (цзунь) с Небесным Господом. Ценил ли он тем самым людей или же ценил ли их добродетель? Скорее, он таким образом принижал их и приводил добродетель в упадок. Гордыня есть враг добродетели, как только она овладевает сознанием, все действия становятся ущербными» (там же, [212], с. 208/209). В Тяиъчжу шии Будда неоднократно предстает исключительно в негативном свете, едва ли не как служитель Сатаны, хотя это и не утверждается явно. Вместе с тем через катехизис прошла сквозная мысль о положительном духовном значении древней китайской культуры. Опираясь на фундаментальные конфуцианские темы самосовершенствования и уважения к древности, Риччи заявил, что «источником добродетели является самосовершенствование, основывающееся на служении Всевышнему Владыке {Шанди). Добродетель [династии] Чжоу, несомненно (би)’ зиждилась на деле служения Небесному Господу» (там же, [214], с. 208/209).
«Языческие» точки зрения и аргументы, приводимые для их христианского опровержения, присутствуют на многих страницах работы Риччи. Китайский ученый излагает нечто, напоминающее синтез католицизма и буддистского учения, 一 пусть породивший Небо и землю Небесный Господь пребывает на Небесах, сохраняя и вскармливая «десять тысяч вещей». Но при этом Небесный Господь есть то, что Будда называл «Я» (во). Из–за погруженности человека во мрак «четырех эмоций» (диюанъ сыда — любовь, ненависть, злоба и страх) «подлинный источник» (чжэньюаиь) затемняется и «источник добродетели» приходит в упадок, что ослабляет и «Я» и Небесного Господа. В свою очередь, невозможность творения для нынешнего человека есть показатель его духовного упадка (см. [там же, [219], с. 212/213]). Несмотря на внешнюю близость этих рассуждений к христианскому учению о грехопадении, Риччи отверг их как «ядовитые». Прежде всего это относилось к предположению, что всесовер–шепный источник всех вещей мог быть затенен самими вещами. Человек может творить вещи только из готовых материалов, предоставленных Творцом, а способность мудрецов охватить своим сознанием Небо, землю и «десять тысяч вещей» еще не означает, что все это находится в их сознании. Риччи настаивал, что ни буддистская, ни неоконфуцианская аргументация не могут быть распространены на христианское понятие о Боге. Творец не может быть единотелесным с вещами, так как вещи вредят друг другу, а Бог вредить себе не может. Утверждение о том, что, принося жертвы Богу, человек приносит жертвы самому себе, кажется западному ученому нелепостью, равно как и вытекающие из него суждения о том, что малое (человек) больше большого (Творца). Это неверно и с моральной точки зрения — ведь если Бог присутствует в человеке, то злодеев быть не должно. Для христианского сознания Бог есть Творец, а мастера невозможно отождествлять с его произведением. Если всё есть Он, то незачем карать злодеев и награждать добрых.