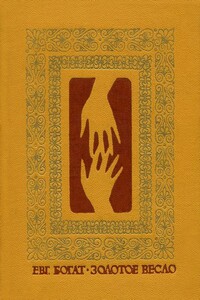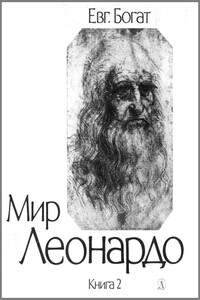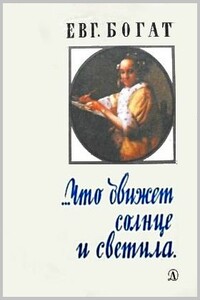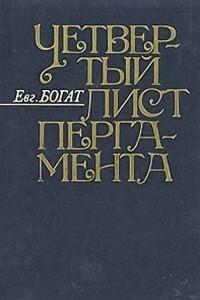Чувства и вещи | страница 36
Успели уже стать общим местом соображения о том, что материальное окружение человека меняется в наш век несравненно быстрее его духовного мира, а развитие нравственного сознания отстает от фантастических темпов НТР. Это, так сказать, общефилософская постановка вопроса. Хочется, естественно, найти в ней конкретные и актуальные аспекты. Один из них — утрата удивления.
Мою дочь с малых лет не удивляют ни телевизоры, ни транзисторы. Они устойчиво окружают ее с первых месяцев ее сознательной жизни. А то, что не удивляет, может стать и обычно становится игрушкой. Ведь не случайно же дети никогда не играют вещами, вызывающими их изумление. Они трепетно рассматривают их или разламывают, исследуя.
Дочери моей никогда не хотелось разломать телевизор. И хотя по ряду соображений я охотно терплю ее миролюбивое равнодушие, с этико-педагогической точки зрения оно меня не особенно радует. Как отнесется мой внук или правнук к гравизащитной куртке? Мне хотелось бы, чтобы одним из самых первых его сознательно активных движений была попытка ее разодрать — посмотреть, почему она заменяет человеку крылья.
Дар удивления надо воспитывать. Вот воспитывал же украинский учитель В. Сухомлинский у ребят маленькой станции Павлыш удивление перед деревьями, особенно осенью или весной, стаями журавлей, старинными курганами, ночным небом.
Настала пора воспитывать удивление перед небывалыми вещами нашего небывалого века. Как делать это лучше, естественнее — задача, заслуживающая, по-видимому, внимания педагогической психологии.
Для меня ясно одно: дар удивления родствен двум, казалось бы, полярным состояниям человеческой души — радости широкого общения с жизнью и людьми и умению оставаться наедине с самим собой.
Как-то я познакомился со старым литературоведом, автором нескольких книг об А. П. Чехове, который, изнемогая в санатории от транзисторов, тешил за обедом себя и соседей по столу викториной-шуткой. Он загадывал: кто из чеховских героев ходил бы с транзистором, а кто не поддался бы повальному увлечению?
Ну конечно же к транзистору питал бы нежные чувства Федотик из «Трех сестер»: он бы уже не фотографировал, не заводил волчка, а надоедал людям иначе, с меньшей затратой физических сил.
Ничего удивительного нет и в том, что трудно, даже невозможно вообразить с транзисторами Вершинина или Тузенбаха: они помешали бы им мыслить и общаться с бесконечно дорогими их сердцу собеседниками.
А вот уверенность сочинителя викторины, что самым большим поклонником транзистора в галерее известных чеховских героев был бы Беликов, показалась мне поначалу странной. Унылая фигура в теплом пальто и с зонтом, в галошах и… транзистор. И потом: у него же в ушах была вата! «Это ничего, — печально усмехался литературовед, — я по ночам подушку кладу на ухо и то хорошо слышу: они, черти, мощные. Не сомневайтесь, Беликов бы с ним не расставался, вы не на вату, вы вглубь посмотрите».