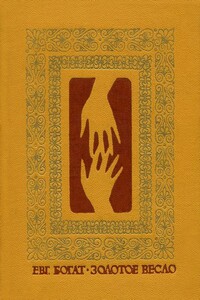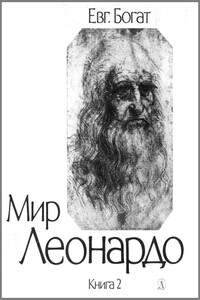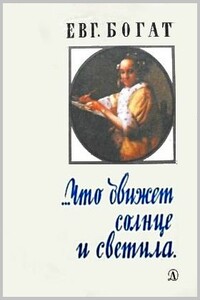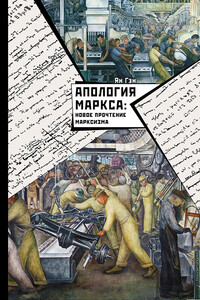Чувства и вещи | страница 27
Юлии, конечно, легче жить с ее „кожей“
А вопрос о доброте — большой, над ним стоит подумать. Рано еще нам не восхищаться теми, кто кидается в пламя и воду. Но и мысль Кирилла о новых точках отсчета мне нравится».
«Научный руководитель еще больше стал тиранить инженера-конструктора Н. Говорит при нем же о том, что делает он: „Надо быть классическим идиотом, чтобы делать это“. Инженер Н. — идиот! Да он, как никто, разбирается в электронике, а техническая интуиция у него, можно сказать, нечеловеческая. Шурка сегодня, когда руководитель вышел, не выдержал: „Вы бы осадили его, Геннадий Павлович, крепенько, по-умному…“ Н. на это ничего не ответил и, когда мы вечером шли домой, не шутил, не фантазировал, не рассказывал о парадоксах жизни, а курил и молчал. А у самого общежития задержал Шурку и меня. „Стар я, ребята, — сказал он, — штурмовать бастилии, семья у меня, гипертония“. Мы с Шуркой на это ничего не ответили, ушли к себе в общежитие, а на лестнице Шурка нехорошо сострил: „Рожденный ползать может летать, рожденный летать может ползать“. Это несправедливо, конечно, инженер Н. не ползает. Он молчит. И мы с Шуркой молчим, когда при нас его унижают, хотя не имеем ни семьи, ни гипертонии».
Еще одна запись:
«Утром по дороге в институт кинули с Шуркой жребий, кому говорить научному руководителю, чтобы больше не обращался к нам на „ты“. Выпал „орел“ — говорить мне. Если бы еще руководитель был стар, куда ни шло. Или если бы говорил „ты“ без разбора. Но у него определенная черта: рабочим — „ты“, инженерам — „вы“. А многие не старше нас. „Осади его по-умному, интеллигентно“, — сказал Шура, когда выпал „орел“. Я волновался, как при опробовании машины. Хотя руководителю тридцать пять лет, но доктор наук, величина. Даже не помню, что ему наговорил. Ребята потом помогли восстановить картину. „Ты подошел к нему, как бык наклонил голову и тихо начал объяснять: „В нашей деревне, Николай Георгиевич, даже родные говорят между собой на „вы“, даже сестрам „вы“ говорят, матери, а „ты“ — если в сердцах, забывшись или если такая уж близость!“ А он заморгал, потом понял, побледнел и вышел“. Шура уже начал поддразнивать меня: „В нашей деревне, Иван Тарасович…“».
Я так увлекся тетрадями, что забыл сообщить самые элементарные биографические данные о моем герое. Филиппчук родился в старинном селе на левом берегу Днепра, в его широком течении близ Киева. Когда решилось — быть ему в мире, стояла последняя довоенная весна. Сельский учитель Тарас Филиппчук задумал ладить в ожидании первенца новый дом. Тapac был первым интеллигентом в крестьянском роду Филиппчуков, был он, вернее, полуинтеллигентом-полукрестьянином: и учительствовал и работал на земле; крестьянкой была жена его, мать Ивана. Когда он родился, Тараса уже убили, а деревни не было. Землянки были — в течение пяти лет. Говорят, что иногда и в землянках вырастают дети (я чуть было не написал «мальчики») с крепким сердцем, без ревматизма. Да и Филиппчук, насколько помнят в армии и в институте, никогда ни на что не жаловался. Может быть, не болело у него ощутимо сердце, может быть, он не верил, что это именно сердце болит. Не мог поверить в собственную непрочность.