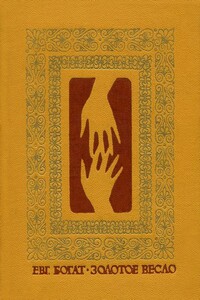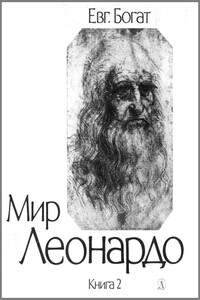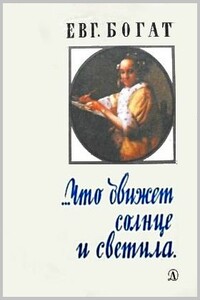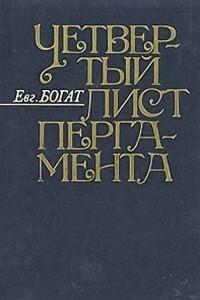Чувства и вещи | страница 13
Допытывался я и у монтажника Саши Клеймана — и в мимике его, и в жестах чувствуется характер увлекающийся, чистосердечный и непосредственный.
— Ну о чем? — пожимал он плечами, улыбался. — Вот о Розе Кулешовой, помню, о ее руках.
— И что говорили?
— В общих чертах: что есть в человеке еще не раскрытые возможности. — Помолчал и улыбнулся еще смущеннее: — Ну, Коля Соболев меня в невежестве обличил… Говорит: помнишь описание рук у Стефана Цвейга в новелле «Двадцать четыре часа из жизни женщины»? А я не читал… Жаль, говорит, что не читал: Цвейг первый указал на возможности человеческих рук, расшифровал через них людей… Через неделю у меня день рождения; ребята дарят разное. А Коля — Цвейга. «Избранное». — И уже без улыбки: — Он, Коля, сложный, емкий. И электроникой увлекается, без дураков, и художественной литературой. Ходит на концерты классической музыки. Он как луч лазера — в смысле объема информации.
Мысли о не раскрытом в человеке волнуют молодых. Конструктор (несколько лет назад он тоже был рабочим) делился со мной:
— Бывает, что мальчик талантлив в математике или музыке, а вырастет — нет таланта. Куда же он уходит? Ведь талант не вода, человек не песок. Или, наоборот, раскрывается кто-то на старости лет, и люди ахают: откуда такое чудо? А может быть, мы когда-нибудь постигнем глубоко «механизм» таланта, научимся им управлять?
В триединой формуле Олега Смирнова — работать надо, учиться надо, мыслить надо — ни один из них не забыл о заключительном «надо».
О чем мыслить? О таланте, который иногда «уходит», как вода в песок, о том, почему ребенок аплодирует солнцу. Что же ищут они — ключ от хитроумного сейфа или от дорогого рояля? Слышен ли в их исканиях тот музыкальный аспект, о котором — помните? — говорил мне старый архитектор?
То же изумленное отношение к жизни, желание понять ее тайны ощущается и в тетрадях Ивана Филиппчука. Но о них потом. А сейчас углубимся в одну философическую особенность, весьма рельефно характеризующую идеологический ландшафт XX столетия. Будущий исследователь умственной жизни Западной Европы эту особенность, надо полагать, заметит.
4
Сто лет назад Фридрих Ницше патетически констатировал: «Бог умер». Одновременно он утверждал идею «умаления человека, наделенного добродетелями машины».
Сегодняшний американский социолог Э. Фромм бесстрастно констатирует, что «человек умер» и недалек день, когда он «перестанет быть человеком и станет неразмышляющей и нечувствующей машиной».