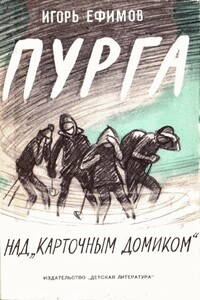Невеста императора | страница 21
Или Иероним из Вифлеема. Уж он ли не поносит плотские утехи, он ли не поет гимны чистоте. Но и у него, в послании к девственнице Евстохии, мы находим горькие признания в том, что он, «тот самый, который из страха перед геенной осудил себя на заточение в обществе только зверей и скорпионов, часто мысленно был в хороводе девиц… Бледнело лицо от поста, а мысль кипела страстными желаниями в охлажденном теле, и огонь похоти пылал в человеке, который заранее умер в своей плоти». А с каким увлечением он перечисляет уловки сладострастия! В таких разоблачениях, даже если они пишутся в пещере, нетрудно распознать знатока.
(СНОСКА АЛЬБИЯ. Позднее я нашел у Иеронима Вифлеемского отрывок, подтверждающий слова августы Пласидии: «Эти дамы подкрашивают щеки румянами, глаза — белладонной, лоб покрывают пудрой… Громоздят на голове прически из чужих локонов… Стареющие вдовы надевают шелковые платья и ведут себя как трепещущие школьницы перед молодыми людьми, годящимися им во внуки… Другие затягиваются в корсет и делают такой разрез впереди, что их груди торчат наружу, едва прикрытые льняными лоскутами…»)
И все же, когда живешь во дворце, поневоле — даже в тринадцать лет — заражаешься главной, неназванной верой всех окружающих: верой во власть. Власть остается превыше всего, даже превыше Господа Бога, — так мне казалось. Видимо, и борьбу церковных иерархов и епископов тех лет я воспринимала так, как воспринимали ее мой брат, император Аркадий, и его жена, императрица Эвдоксия. Вера должна быть цельной, должна служить опорой и прославлением власти. На роскошное убранство храмов, на облачения епископов, на торжественные процессии тратились огромные средства. Входя в дворцовую церковь, я порой обмирала от окружавшего меня великолепия.
Особенно мне запомнились крестины моего племянника, будущего императора Феодосия Второго. Город был убран гирляндами цветов, затянут разноцветными тканями, переполнен танцорами, музыкантами, фокусниками, жонглерами. Дети дули в свистульки, колотили в барабаны. Запах жареной говядины и рыбы мешался с запахом свежевыпеченного хлеба, плыл по улицам, проникал в окна. Процессия придворных и священнослужителей — все в белых одеждах — тянулась и тянулась от храма Святой Софии к дворцу. Каждый держал в руках зажженную свечу. Наконец, словно лодка на сверкающей реке, появилась пурпурная мантия императора Аркадия. Младенца Феодосия несли за ним в колыбельке, усыпанной бриллиантами. В это время какие-то епископы из провинции пробились к императору, упали на колени и протянули свиток, видимо с прошением. Император взял папирус одной рукой, другой приподнял головку ребенка и возгласил, еле сдерживая счастливую улыбку: