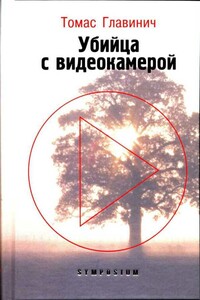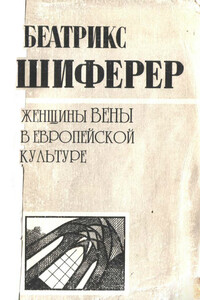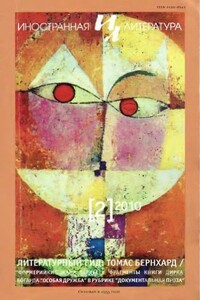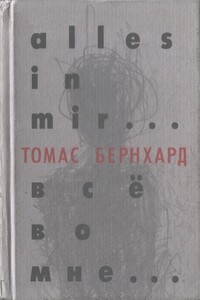Стужа | страница 88
К вечеру поднялась метель, я видел, как вьюжный прибой хлещет в оконное стекло. Если сначала за окном потемнело, ненастье только надвигалось, то потом, когда запуржило и метель со всей силой обрушилась на гостиницу, стало вдруг совсем светло, всё вокруг забелило снегом. Я раскрыл газету и стал читать про людей, которые чего-то требовали, про людей, которые что-то знали, и про тех, которые ничего не требовали и не знали, про затонувшие города, про небесные тела, движущиеся уже не так далеко от нас.
Хозяйка была дома, обе дочки корпели над домашним заданием на кухне.
Живодер в это время, наверное, делает свой обход, а инженер подает свои команды над стремниной реки.
Священник сидит, поди, у себя в усадьбе, мясник — в потемках своей бойни.
Сапожник большим пальцем разглаживает шов.
Учитель задергивает занавески и испытывает страх.
Они все боятся. Мне вспомнился Шварцах.
Я вдруг перемещаюсь в операционный зал. Одну за другой приподнимаю мертвые головы. Спускаюсь на лифте в подвал за парой костылей и поднимаюсь вновь на четвертый этаж, где их ждет один из больных.
Я думаю о матери. Она будет недоумевать: почему же он не пишет? Все они будут задаваться этим вопросом. Не могу я никому писать. Даже ассистенту!
Я опять смотрю в окно и ничего не вижу. Такая сумасшедшая вьюга.
Потом слышу голоса у входа в гостиницу. Это первые посетители из рабочих, они отряхиваются и сбивают снег с сапог, да так, что дом дрожит.
Но спускаться к ужину еще рано. По голосам, доносящимся снизу, я могу составить представление об их обладателях, я вижу лица, некоторые представляются смутно, за голосами я не вижу людей.
Я читаю Генри Джеймса и даже не понимаю, о чем, собственно, прочитал, помнится, какие-то женщины шли за гробом, какой-то поезд, город в руинах, всё это где-то в Англии. Шум, сопровождающий появление посетителей, переливается в зал. Он становится каким-то ватным. Распахивается и хлопает о косяк дверь. Потом что-то глухо гремит, наверное, бочки вкатывают. Бодрый мужской хохот — несколько мужчин моются на кухне, а хозяйка держит над ними кувшин с водой и подает полотенце. Вьюга не утихает. Я поднимаюсь и иду вниз.