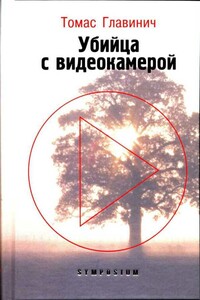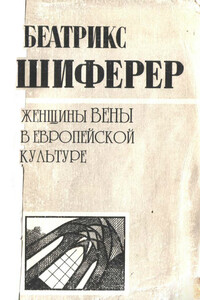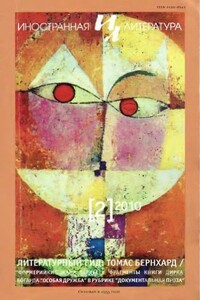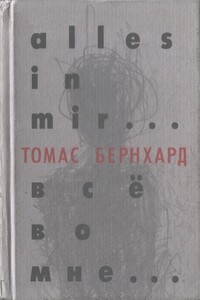Стужа | страница 69
Что это за язык такой, язык художника Штрауха? Как мне быть с осколками его мыслей? То, что поначалу казалось мне разорванным, бессвязным, имеет свою «поистине чудовищную связь». В целом это всеужасающая словесная трансфузия в мир, в человеческое множество, «бесцеремонный нажим на слабоумие», чтобы поговорить с ним самому, «достойная воспроизведения перманентная интонационная основа». Как это записывать? Что брать на заметку? До какой степени схематизировать, приводить в систему? Эти словоизвержения обрушиваются на меня камнепадом. Он то и дело обрывает свои рассуждения взрывными разрядами смехотворности, которую «всё вновь открывает в себе и в мире». Язык Штрауха — нечто вроде языка сердечной мышцы, проклятый, звучащий вразнобой с мозговым ритмом язык. Это ритмическое самоумаление под «треснувшим сводом собственного глубинного слуха». Его понятия, приемы обнаруживают принципиальное созвучие собачьему лаю, на который он с самого начала направил мое внимание и которым меня «обращал в пыль». И язык ли это вообще? Да, это двойное дно языка, ад и рай языка, это мятежное буйство рек, «дымящиеся словоноздри всех мозгов, отчаявшихся в беспредельном бесстыдстве». Иногда он читает вслух какое-то стихотворение, тут же рвет его на части, привязывает это к какой-нибудь «электростанции» и говорит о «переводе на казарменное положение идейного мира бессловесных корней, нуждающегося в воспитании», по его выражению. «Мир — это мир новобранцев, их надо построить в ряды, научить стрелять и прекращать стрельбу». Он вырывает из себя слова, точно вытягивая их из трясины. И при этом рвет в кровь самого себя.
По его свидетельству, война оставила страшные следы во всей долине. «Еще и сегодня натыкаешься на черепные кости или целые скелеты, которые лишь слегка занесены хвоей», — говорит художник. В лесных урочищах, вблизи ущелья, за озером да и в лиственничном лесу рассеянные полки умирали от голода. «В конце концов их добивала стужа. Кое-кому, но очень немногим удалось спастись, остальные были слишком слабы, чтобы добраться до ближайшей из деревень. Но об убийстве солдаты не помышляли». Убийство было ремеслом «темного сброда с Востока». Да и арестанты из близлежащей тюрьмы изрядно полютовали, и многих пропавших, которые бежали и не вернулись, находили потом повсюду в кустах и среди камней. «Сколько раз во время сбора брусники кто-нибудь из детей поднимет, бывало, крик, подбежит к матери и потащит ее в заросли белокрыльника. А там находят человека, обнаженный труп, с которого несколько лет назад они сорвали одежду. Голод делает человека зверем». В конце войны леса были захламлены военной техникой: танки, дозорные машины, пушки, мотоциклы, автомобили на каждом шагу торчали между стволами. «Некоторые взрывались, стоило только прикоснуться. В танках часто находили трупы солдат, слепившихся на полу в один комок, с разорванными легкими. Те, кто открывал люки, делали страшные открытия, — рассказывал он. — Понемногу набирались смелости, стали расковыривать технику и начали хоронить мертвых солдат, тут же на месте присыпали их землей, на кладбище перевозить не хотели, уж очень они были чужие. Трупы рассыпались при первом же прикосновении, время и воздух сделали свое дело. В ямах дети находили взрывоопасные фаустпатроны, которые разносили их в клочья, вы только вообразите себе лоскутья детских тел на деревьях. Мужчин в расцвете сил можно было увидеть раздавленными тяжестью пушечных колес. В лощине были разбросаны тела гренадеров с вырванными языками, с воткнутыми во рты членами. На деревьях, куда ни глянь, — куски изрешеченного обмундирования, из бочага торчали закаменевшие руки и ноги. Прошли годы, пока местные не привели леса в порядок, да и во всех здешних краях тоже этим занялись. Сначала в лес ходили только затем, чтобы поискать в танках чего-нибудь съестного, разжиться всякими полезными вещами, говорят, даже перешивали кое-что из обмундирования и носили эту одежду годами. А потом уже стали ходить в лес, чтобы, как говорится, прикрыть мертвецов или то, что от них осталось, поскребя вокруг граблями и лопатами, лишь бы стереть следы. Но следы войны еще не стерты, — сказал художник. — Эта война никогда не будет забыта. Людям не избежать встреч с ее отметинами, куда бы они ни шли».