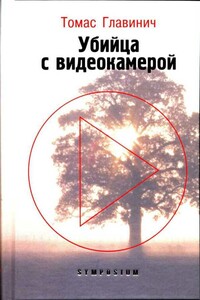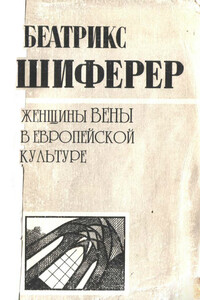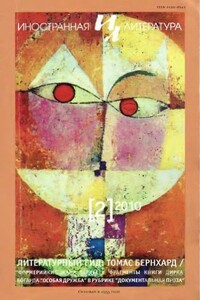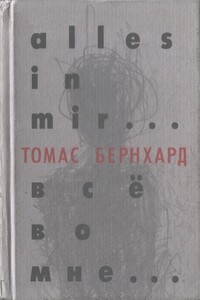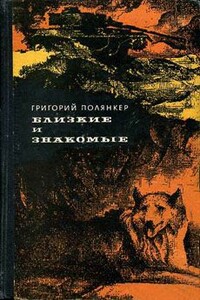Стужа | страница 53
сделали незримыми, невидимыми для меня, и всё белохалатное сонмище разразилось при этом диким хохотом. Я сказал: «Жизнь запрещает отдельную жизнь!» Тут они принялись грозить пациентам страшными карами, если те вдруг вздумают высказаться по поводу моей второй фразы, сами же врачи всё больше заходились хохотом. Когда он стал невыносим, я скрылся в другой комнате, оказавшись в бойнеподобном белокафельном помещении, совершенно пустом, куда медицинская свита позволила мне войти без провожатых. Но я чувствовал, что она прилипла к двери, которая закрылась за мной. Затем я неожиданно увидел в центре операционный стол, он был пуст. И вдруг я заметил пристегнутого к нему Штрауха. Неожиданно передо мной появился плавающий в воздухе набор инструментов, подготовленных к операции и просящихся в руки. Штраух в своих путах неподвижно лежал на операционном столе, который вращался, описывая дугу не более полукруга. Ужас заключался в том, что стол беспрестанно двигался, и, как только я подошел к нему, он подался в сторону, я понял, что не смогу работать на этом столе. «Нет!» — закричал я, но персонал, затаившийся за дверью, ответил громовым хохотом. Раздались крики: «Оперируйте! Приступайте же!» — и снова загремел смех. В этом шуме я вновь и вновь различал голос ассистента: «Режьте! Чего вы ждете! Режьте, наконец! Вы обязаны резать! Неужели не понятно, что вы обязаны резать? Вы всем обязаны моему брату!» Тут я начал оперировать. Я уже не помню, что это были за ощущения, одновременно я выполнял несколько операций: на селезенке, на почках, на легких, на сердце, на мозге, и всё это на безостановочно и беспорядочно движущемся столе. И вдруг я увидел, что тело, которое, как мне казалось, я так безошибочно прооперировал, совершенно искромсано. Организм уже ничем не напоминал организм. Это было грудой мяса, которое я методично, с безупречной техникой, но в полном сумасшествии изрезал, а потом столь же безупречно, но в состоянии безумства сшивал по кускам. Во время этих операций, проделанных в соответствии со строжайшими методическими предписаниями, на меня низвергался хохот врачей, толпившихся за дверью и, видимо, следивших за всем, что я делал в операционной, каждое прикосновение скальпеля к ткани сопровождалось изрыганием насмешливого профессионального всезнайства. Наконец они решили, что операция закончилась и вполне удалась, тогда как сам я полагал, что «лишь располосовал и изрезал всё, к чему прикасался мой скальпель, и абсолютно неправильно скроил и сшил заново». Все они хлынули в операционный зал и принялись кричать о том, что меня можно поздравить с великим достижением, величайшим вкладом в хирургическое искусство, они ликовали и подхватили меня на руки, и каждый норовил пожать, поцеловать мне руку, они бесновались в своем восторге. Меня подняли под самый потолок, и с высоты я смотрел вниз на бугорок совершенно растерзанного мяса, которое, казалось, дергается от электрошока, корчится в судорогах, я смотрел на безобразно расчлененную плоть, из которой толчками вырывается кровь, целое море крови. И в ней медленно тонуло всё: люди в халатах и все предметы, даже крики ассистента — эти страшные, захлебывающиеся в потоках крови его брата фразы: «Не бойся, операция прошла удачно! Я брат твой, брат! Не бойся, операция прошла удачно!..»
Книги, похожие на Стужа