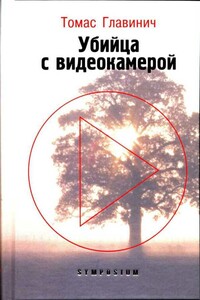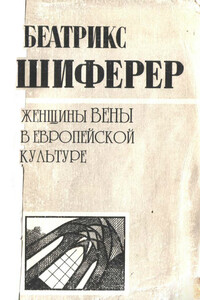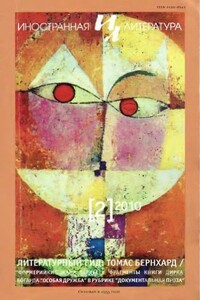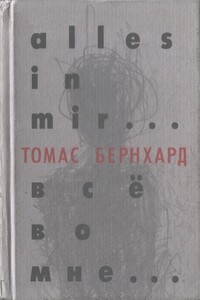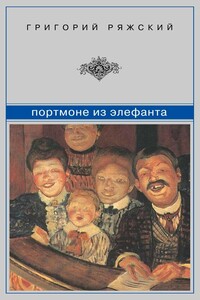Стужа | страница 12
«Мое время прошло, как проходит время, которого не желаешь. Да, я никогда не желал своего времени. Болезнь есть результат отсутствия интереса к своему времени, отсутствия интереса, работы, удовлетворенности. Болезнь началась, когда уже ничего не осталось… мои исследования остановились на мертвой точке, я вдруг понял: нет, эту стену мне не одолеть! Оставалось одно — искать путь, на который я еще не вступал… Ночи были бессонными, вязкими, хмурыми… иногда я вскакивал, и мне постепенно открывалась вся фальшь напридуманного, всё обесценивалось, выстраивалось в какую-то цепочку, в логический ряд, понимаете, становилось бессмысленным и бесцельным… И до меня дошло, что окружающий мир не хочет, чтобы его объясняли».
День пятый
«Семья, родители, всё на свете, за что я мог бы держаться и всегда пытался держаться, — давным-давно всё это потонуло во мраке, скрылось из глаз моих, или же я удалился от всего света, затворившись во мраке. Точно не знаю. Во всяком случае, я рано остался один, а может, был одинок всегда. Одиночество занимало меня с тех пор, как себя помню. И само понятие одиночества. Некой самоблокады. Поначалу я представить себе не мог, как это возможно — всегда быть одному, всё время. Это не укладывалось у меня в голове, я не мог вместить это и не мог выбросить». Он сказал: «Я постоянно возвращался к этому. Здесь беспомощный, там неприкаянный. Просыпался я здесь, а не там, где мне следовало бы пробуждаться в соответствии с моей натурой. Детство и юность были так же страшны одиночеством, как и годы старости. Как будто природе дано право всё время затирать меня, наступать на меня, залезать мне в потроха, отделять меня от всего, сталкивать со всем, но всегда отмерив предел. Поймите мою мысль: в ушах гудит от упреков, которые делаешь сам себе. Думать, что это песня по чьим-то нотам или музыкальная импровизация, было бы заблуждением: это не что иное, как одиночество. Это как у птиц в лесу или морская зыбь, бьющаяся о колени. Я никогда не умел помочь себе, а теперь уж тем более. Поразительно. Разве нет? Люди, по-моему, лишь делают вид, что не одиноки, и как раз потому, что одиноки всегда. Стоит лишь посмотреть, как они пропадают в своих сообществах, а может, именно это доказывает, что всякие там союзы, объединения, религии, города и созданы для бесконечного одиночества? Видите, всегда одни и те же мысли. Неестественные, может быть. Объевшиеся связью. Возможно, абсурдные. Может быть, дилетантские. Если с одиночеством уживается какая-либо практическая самостоятельность, — продолжал он, — это еще куда ни шло, но у меня не было ни малейшей самостоятельности. Я не знал, как мне быть. С тем, что уготовано каждому: влияния, окружение, собственное «я», которое было мне не по силам. С тем, что, оказывается, было во мне всегда. Вот так-то. Понимаете?!» Он говорил: «Люди, производящие на свет нового человека, берут на себя непомерную ответственность. Всё неисполнимо. Безнадежно. Это великое преступление — производить на свет человека, зная, что он будет несчастен. Хотя бы раз. Несчастье на один миг — это несчастье навсегда. Порождать одиночество потому, что не хочешь быть одиноким, преступно». Он говорил: «Природный инстинкт преступен, и ссылаться на него — всего лишь отговорка, как всё, чем тешатся люди».