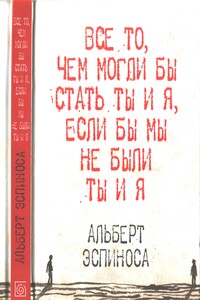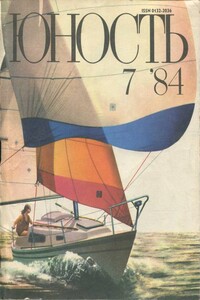Свадьба | страница 23
Я присел на скамейке подле грубо, по-деревенски сколоченного стола и смотрел то на окно, за которым были они, то на небо. Я был один. И физически один, и душевно. Такого одиночества, такой опустошенности, такой надсадной отверженности я редко когда испытывал. Ну и пусть, думал я, ну и пусть. Пусть один, пусть отвержен, пусть пуст. Любой уход не должен быть нагружен ничем. Только пустотой. Пуст — легок.
Я сидел и пил пиво. Дорогое, немецкое — прямо из горлышка. Сашок еще со студенчества любил дорогие сорта немецкого пива. Потому я стараюсь, чтоб оно всегда в доме было. И оно всегда есть. Часть внизу, в ящике, часть в холодильнике.
Я сидел, ждал. Думал, хоть Нинуля заметит, что меня нет, выйдет, узнает в чем дело, заставит подняться ко всем. Но нет, никто не выходил. Я поднялся сам, прошел к холодильнику, достал пива — ноль внимания. Так увлечены, что никто меня и не заметил. Снова спустился вниз.
И вот сижу и пью пиво, которое сам себе только что притащил. Никто меня и не заметил, когда я брал его из холодильника. Я еще нарочно так бутылкой о бутылку звякнул, так же и стакан доставал из шкафчика, чтобы лишний раз звякнуть, но и этого никто не расслышал.
Они сидели в гостиной и бурно обсуждали, как расставлять столы на свадьбе, а мне этого не надо.
Мне и свадьба-то не нужна.
Сказал бы так в свое время — и глядишь ничего бы и не было. А если и было бы, то без меня. А без меня — хоть на ушах ходите. Мне все равно.
Большие уже. Взрослые люди уже.
Ты, Леша, моего Сему не знал. Не видел никогда. Но ты знаешь, что у меня в Израиле брат с семьей и с мамой. Если б я им не сказал заранее, что свадьба будет, я б еще сейчас мог все отменить. Черт меня дернул вообще заикаться об этой свадьбе. Кому бы то ни было — не только им. Но они уже билеты заказали. Летят. Всей семейкой. Сема с Цилей. (Жену его так зовут). И мама…
Ну и, конечно, перед этим я тоже маху дал… Отсутствие здорового стержня сработало. Шумлю-то я много. Но толку… Видимо, проклятие трехтысячелетнего зова прет из меня фонтаном. Но не тем, что изыскал в нем великий мученик Гулага. Не страсть ножичком полоснуть, прославившая еврейского выродка Богрова, Мордко Гершевича, а слабость перед семейным очагом, семенем, прославившая незабвенного юдофоба Розанова, Василия Васильевича. Ужасным феноменом был. Евреев презирал так, что самому перед смертью страшно стало. Но зато никогда не скрывал, — напротив, всюду выпячивал, — что свою врожденную привязанность к полу и браку (какие деревянно-браконьерские словечки-то у нас для святейших понятий!) обнаружил исключительно в том самом жидовском трехтысячелетнем зове. Вот и во мне, судя по тому, что ни на что, окромя бури в стакане воды, не способный, ентот зов по всем жилкам разливается. Иначе распрощался бы с их поповской свадьбой — и поминай как звали. Так нет же, кровная привязка к семени, к ненаглядному отпрыску сильнее всего на свете. Едва только поманили пальчиком — пожалуйста, с распростертыми объятиями.