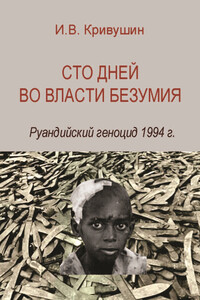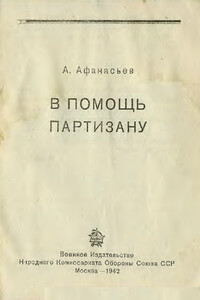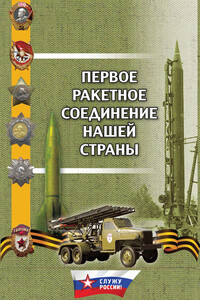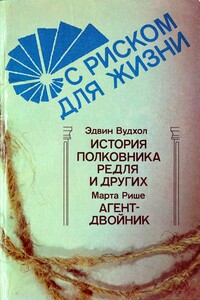Войсковая разведка | страница 13
Можно не сомневаться в том, что Наполеон считал абсурдом базировать план действий только на донесениях о положении противника, независимо от того, насколько всесторонне эта обстановка была известна в момент составления плана. Именно так, хотя и не сознавая этого, поступаем мы в нашей повседневной учебной работе в военных школах: план действий должен основываться на данных, которые будут соответствовать действительности в тот момент, когда план будет осуществляться. Смысл формулы «что есть» значил бы мало, если бы за ней, как естественный вывод, не возникала формула иного смысла: «что будет».
Операции августа 1914 г. дают нам множество примеров планирования без учета того, что может предпринять противник, о котором имелось много данных. Даже действия некоторых наших дивизий в 1918 г. в Аргоннах, к сожалению, указывают на наличие той же тенденции и могут создать у исследователя впечатление, что нашими войсками руководили австрийские генералы прошлого столетия.
Предположения о возможностях противника в будущем мы можем сделать только на основе данных о существующем положении противника. Эти данные и должны явиться базой для определения метода действий. При этом ясно, что если мы будем основывать нашу деятельность на неконкретных данных, то и все выводы, сделанные нами, включая и оценку командиром возможных действий его собственных войск, будут несостоятельны. Отсюда возникает вопрос: возможно ли составить точное представление о возможных в будущем действиях противника, пользуясь точными данными об обстановке в прошлом?
Да, это всегда возможно, если будут приняты меры к сбору достаточных для этого сведений. На возражения об относительности и небольшой пользе такой оценки противника следует заметить, что перечень возможных действий противника должен быть настолько полным, чтобы охватить все возможные варианты, не пропуская ни одного из вероятных путей, по которому могут развиваться действия противника.
Практически все военные авторитеты сходятся на том, что положение противника на данный момент является логической базой, на основе которой могут быть определены предстоящие его действия. Между тем, именно процесс перехода от того, что известно о противнике, к определению его действий в будущем является причиной ошибок, допускавшихся ранее в нашей системе обучения.
Наша послевоенная доктрина в области разведки, господствующая в офицерской школе Генерального штаба и нашедшая отражение в инструкциях военного министерства, пренебрегает необходимостью учета и оценки некоторых относительных данных о противнике, стремясь к обманчивой точности. Современная наша система, признающая значение точности в знании противника, отказывается от попыток определить с самого начала «наиболее вероятные действия противника». До 1932 года наши разведывательные органы определяли «вероятные действия противника» на основании данных, которые, возможно, были предназначены для дезинформации, или путем чисто академических рассуждений. Старый метод оценки обстановки создал такие формулы, как «вероятная задача противника», «вероятные намерения противника». Вся оценка здесь основывалась на старании определить «задачи и намерения» противника.