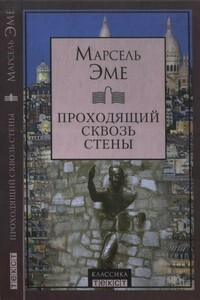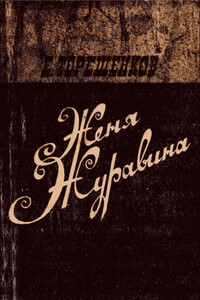Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 89
От «Венеры» Белорыбова совсем дуреет. Машинально оглядывается, но за ее спиной лишь Лещ, отчаявшийся переманить у Пелагеи девок, подцепив какую-то безносую старуху, бьет ее по плеши скелетом обглоданной селедки.
Пелагея завистливо косится на Людмилу Афанасьевну — черт, такую пропустил!.. Но рыцарским жестом наливает в чашку мадьярский коньячок.
— Пожалуйста, мамзель, за всех трудящихся, то есть за вашу женитьбу, ги-ги…
При этом, однако, соображает: тот, высокий, молчит, верно, будет покрупнее Чира. Если Высоков набавит — словлю, нет — примусь опять за шубы. Охота зря возиться!.. Конец один — поймают, и к стенке. Пока что хоть пожить в свое холостое удовольствие, без лишних хлопот.
Курбов томился. На Катю не смотрел. Слов не слышал. Глотал спирт, а в уши бил град: грохот локтей об стол, бряк чашек, брань, все те же «цыпленки», гадко, нагло «хочущие жить». Так час, а может, два. Наконец, кулаки сжались, мысли стянулись, наступило человеческое, деловое: заговорить. Это — девчонка, если причастна — проболтается, и хвост, тот, знаменитый, недоступный хвостик, о котором тосковали на Лубянке, окажется в руке. Но как? Прежде всего — взглянуть, освоиться.
Все завертелось. Дело, партия, Ресефесер — железным, шрапнельным роем прочь ринулись, многих спугнув, — так Курбов поглядел, так ясно значилось в серых разъяренных глазах: этот все может, так запахло в «Броду» Октябрем, броневиками, пулеметными лентами, волей, смертью.
Это с другими. Сам же Курбов сразу опустел. Вынули подпоры, и дом забился на ветру разметанной купой, из окон выкатились кубарем жильцы, крыша вовсе снялась и улетела. Пожарных, что ли, звать или писать слюнявые стихи? Нет, просто человек чумеет. Видит смуглую, сухую щеку — пахнет степной травой, перегаром пахнет, дышит звериным, пушистым, розовым теплом. Впервые в жизни Курбов теряет память. Рука приподнятая не знает, что ей делать: схватить ли папиросу, или, стол оттолкнув, уйти, или смуглое, полынное, сухое прижать к себе, как прижимают голодающие на вокзалах караваи смоляного, пахнущего кислой жизнью, хлеба? Нечто явственно меняется. То есть: вместо не только 1921 и РКП, но и (пространней) человека в брюках, по степи полынной, знойной, обжигающей и ноздри, и копыта, средь перепуганных печенегов мечется взбесившийся бык. Даже не мечется, стоит понуро, голову пригнув, только белые, холодные глазища наливаются багровым током, и никаких арканов: прыжок, рог, смерть. Впрочем, возможно, это ручная граната; постучал, бросил, остаются три секунды. Дальше — разъединение рук, ног, языка, глаз, всего, что было еще недавно человеком. Курбов вступает вновь в недели сыпняка. Ноги, ненужные, легко отваливаются. Сами, тонкие и к миру безразличные, шагают по Сретенке, по Мещанским, к заставам, вырастают в бессмысленные водокачки и где-то, среди снега, на иксовой версте, гибнут. Руки, напротив, — здесь, но живут раздельно. Левая еще, по старой памяти, чуть поддерживает голову, готовую скатиться, как сентябрьское яблоко, правая же, свернувшись лодочкой, тянется к Кате, хочет немного, ну на грош промыслить чужого жара, ради, ради… когда-то было — «Бог». Съели Спиридон и глиста. Глаза, отчаянно напрягаясь, выскочили из орбит и, птицами, от изумления вереща, присели на узкие, подрагивающие плечи Кати. Язык на месте, во рту. Но тщетно Николай пытается что-либо сказать — огромный ком мяса копошится улиткой, и только. Да, да совсем сыпняк! Очень жарко, снять бы куртку, и густая дрожь.