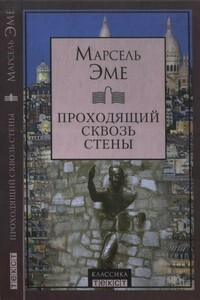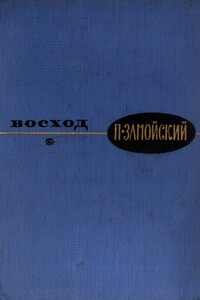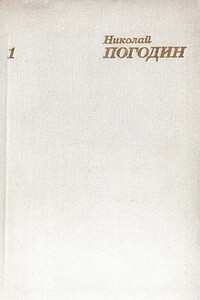Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 37
Прокурор был быстр и деловит (понравился Николаю). Судьи входили и уходили, как хористы в опере.
— Сто вторая… Лишить всех прав… Каторжные работы… без срока…
Опять централ. Кандалы. Натерли ноги. Из окон: снег, нагромождение эффектов, Урал. Месяцы и вечера. В острожном переплете — желтый, тощий месяц. Амурская колесная.[23] Порка и кирка. На камне камень бей! Какие там свершения!.. Где-то: партия, книги, девушки в кисейных блузках, воркот голубей. Здесь камень, кровь и вши. В наметанном зрачке конвойных тупое: «Не уйдешь!»
И все же ушел. Звезды августа кишели муравьиной кучей. Низкорослую бурятскую лошадку версты и сон погони густо взмылили. Пучился Байкал.
В избе. Кислое голубенькое молоко. Течет по телу сон и брызжет в глаза молочной ночью, белесоватой, ватной мглой. Ночевал. Утром потянулся. Никого. Хозяйка за водой ушла. На земле младенец страшный, кривоногой, с огромной тыквой головы — облезлая, струпья, — не может ни ходить, ни говорить. Таких бы убивать! Глядит большущими стеклянными глазами на Николая. Вдруг, слюну пустив, блаженно улыбается. Лицо, как тайга весной, все прорастает. И Николай от нежности не может шелохнуться, сам улыбается и с не испытанной еще бережностью гладит паршивую головку. Обнять бы, унести, не знать на свете ничего, кроме роста этих кривых, убогих ног. Так, верно, черенок от яблони, когда воткнут его в сырую, разрыхленную землю — чудный зуд — растущих и не листьев, но корней. Почему-то перед Николаем встала наивная, смешная — звали Таней. Как тогда — гора. Страх. Младенец палец Николая поймал, сосет. И как пощада: хозяйка с ведрами. Пора!
Готов был стать, ну, просто неким, со страстями, с перебоями, с ворчанием досадливым и нежным щебетом, обыкновенным смертным! Но — пересилил. В Казани на явку заявился сухой, осведомился, как ведут работу, о каторге — ни слова.
В апрельский день приехал в Киев. Паспорт верный — сын бухарского купца Лев Мешмет. Протянул его любовно, чуть горделиво швейцару гостиницы «Золотой якорь», и швейцар с почтительностью дунул половому:
— Господину Мешмету номерок.
Взглянул в окошко — солнце. Мальчишка, раскрыв галчонком рот, с трудом засовывал туда огромный ком халвы. Прошли две гимназистки. Вспыхивали первые веснушки — золотая россыпь, груди, полные видением прекрасного поручика с Фундуклеевской[24], как клейкие почки тополей, готовились взорвать форменные передники. Вдобавок имелись: голубые царственные лужи, в них воробьи, рябая радость отпускных, кудахтанье торговок, словом, несложная и все же таинственная бутафория обыкновенного весеннего денька. Взглянув, тотчас же понял: завтра на явку, а сегодня отдыхать.