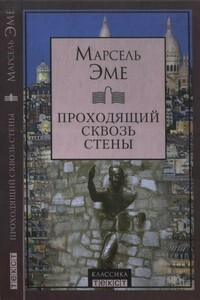Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 117
Доморощенный Бонапарт, шахматный игрок и вождь степных орд, вышколенных, выстроенных под знаменем двадцати одного пункта некой резолюции. Этот — треугольник.[43]
Трапеция — почтенный, в кашне. Как будто пьет чай вприкуску и брюзжит, а вдруг напишет что-то, и почтеннейшую дочку m-r Эйфеля явно разбирает дрожь.[44]
Молоденький, веселый. Идеальная прямая. Грызун — не попадись (впрочем, это только хороший аппетит, — вместе со смехом всем передается). «Enfant terrible», — говорят обиженные в разных реквизированных и уплотненных, здесь же очевидно — просто-напросто живой, не мощи: человек.[45] (Таким был задуман и Курбов, если б не вмешалась жизнь.)
Всех видел. Нахлынули какое-то семейное любование, преданность и теплая, шершавая нежность: здесь — свой, отсюда не уйду.
Тяжелое, неповоротливое заседание: не миноносец — баржа, перегруженная сводками, отчетами, цифрами. Голод. Редеющие города. Деревня, послушная и неприступная, ожидающая еще подачки: коммуны не хотим, а впрочем, все — большевики. Запад? Запад пока не поддержал. Значит…
Курбов видит героическую, притихшую Россию, ржавь машин, человеческую рвань. Высокое, эпическою напряжение: об этих годах уже готовы легенды. Нет даже ропота — шепот только: изнемогли. Октябрьская Россия ослабела, как цинготный, из десен кровь сочится, зубы готовы выпасть. И все же не предает! Даже в этой болезненности — великий миф. Кабацкая земля с мошной (по карману — звяк), с половыми и Стешами, с мадамами Жюльет из самого Парижа, с енотовой великодержавностью, вздыхающей над сомовской маркизой,[46] а между вздохами обмазывающей рожу человека соусом борделез, эта земля, «избранная Богом», обхарканная посему духовными и светскими персонами, стала просторной, голой, суровой, с Коминтерном и с восьмушкой глиняного хлеба. Закрытые лавки, кабаки забитые и забытые, никому не нужные бумажки. Кто забудет эти годы: девятнадцатый, двадцатый?.. Теперь — перелом. Значит…
А Запад? А Всемирная?.. И это видит Курбов. Границы. Последний маленький советик. Красноармеец без сапог, зато со звездою: если надо — умрет. (Сапоги были, будут, а звезды не каждый год, даже не каждый век падают с неба прямо на шапку.) А дальше — дальше огни, бутылки: жизнь. Почти как прежде, Европа раскачивается в фокстроте, перелицовывает фраки, пьет поддельные коктейли и целует юркий хвостик некоего таинственного существа: имя — «доллар», на пузе — портрет благообразного янки; может дать счастье, может мигом ликвидировать весь мир, на то он доллар. Где-то, в берлинском Нордене, в лохмотьях дохлой Вены, в бараках Круппом зацелованной Пикардии, рабочие вымирают, просто, без мифа, без Коминтерна, без звезды — так хочет фрак, так хочет доллар, так хочет фокстротская чечетка: вымирайте, только скромно, никаких демонстративных похорон. В сторонке сто социалистов деловито раскалываются, критикуют «пагубную тактику России» и обещают когда-нибудь, конечно… но теперь? Теперь нельзя. Да, конечно! Когда-нибудь вот эти вымирающие тихо, если только не окончательно вымрут, встанут, зевнут и примутся: дикий скрип раздираемых, крепких, почти нетленных долларов. Будут и у них свои Кронштадты.