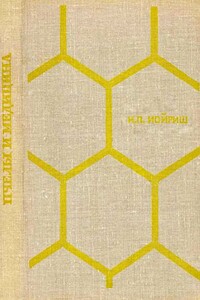…А вослед ему мертвый пес: По всему свету за бродячими собаками | страница 43
В 19 часов 15 минут, когда я из двух высоких окон своего номера, выходящих прямиком на развалины, наблюдал заход солнца, уплывающего за хребет горы Ливан, воробьи уже давно угомонились. Даже беспилотные самолеты ненадолго смолкли, воцарилась глубоководная тишина, какой город вроде этого в нормальных условиях не ведает, разве что в последние часы перед рассветом, и то если сверчки не застрекочут, не залают собаки или не загудят какие-нибудь генераторы. В начале девятого позвонил Хишам, сообщил, что прекращение огня должно войти в силу послезавтра утром, это заставляло опасаться худшего в ближайшие часы — израильтяне могут удвоить интенсивность обстрелов, движимые иллюзорным соблазном «завершить работу».
И верно: чуть погодя, когда город погрузился в темноту за исключением развалин, которые по рекомендации ЮНЕСКО всю ночь оставались освещенными, подобно Акрополю или крепости Сан-Мало купаясь в золотистом сиянии, достойном памятников старины, затемнение в уцелевших кварталах было столь полным, что на небе проступили звезды, всех ярче — Большая Медведица, и на этом звездном фоне показались истребители-бомбардировщики, сначала они прошли над городом на высоте, потом рев их моторов усилился до пронзительного, это свидетельствовало о первом пике, за ним через несколько секунд (или несколько десятков?) последовало второе, и все завершили два глухих, стало быть, достаточно отдаленных взрыва. Меня до известной степени успокаивало расположение здания отеля прямо напротив храмов, эта подробность внушала чувство защищенности до такой степени, что я задался вопросом, уж не обосновался ли по той же причине в здешних подвалах весь штаб Хезболлы. Но кажется, нет.
Воздушный налет вызвал на пространстве, загроможденном руинами, яростную вспышку лая, приведшую меня к выводу, что развалины стали приютом бродячих собак. Коль скоро этот налет исключал всякую надежду заснуть, я стал изучать при свете зажигалки две репродукции, украшавшие комнату, и убедился, что это ориенталистские и порнографические гравюры Жан-Леона Жерома, напыщенного художника академического направления, чьей единственной стоящей картиной остается та, которую он посвятил казни маршала Нея.
Я спрашиваю себя, как бы изобличал эти гравюры Эдвард Саид, который, насколько известно, в своем знаменитом труде, которого я не читал, вообще не говорит о Жан-Леоне Жероме. И вспоминаю, что это ведь в Бейруте я впервые услышал из уст Искандара упоминание о Кучук-Ханум, тезис относительно ее шалостей с Флобером, описанных этим последним, что, возможно, углубило недоразумение, разделившее Восток и Запад.