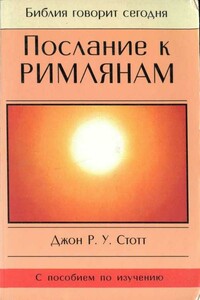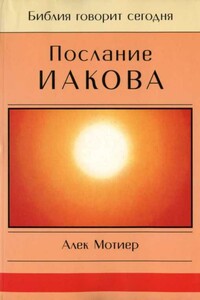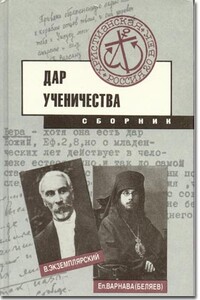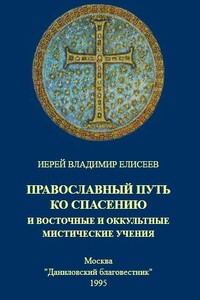Евангелие от Иоанна | страница 121
Иисус заканчивает Свою речь, переходя от темы самопожертвования (которое приведет к созданию нового «стада» из всех народов) к вечной любви Отца и Сына, которая служит источником этого самопожертвования (10:17,18). Здесь Он выделяет четыре пункта.
1. Самопожертвование Сына соотносится с любовью Отца к Сыну (17). Отец любит Сына, потому что Сын любит нас до смерти. Это чудесное откровение. Когда мы нуждаемся и Иисус милостиво удовлетворяет нашу нужду, любовь Отца к Сыну обретает новую силу. Это не значит, что любовь Отца к Сыну зависит от любви Христа к нам. Скорее любовь Отца к Сыну и Сына к Отцу предшествует нашему познанию Его милости. Это ее основа. Но все же эта любовь свершается в сердце Господа, когда Сын отдает нам Себя. То, что Отец восклицает во время крещения Иисуса, Он восклицает еще громче в момент распятия, на которое указывает крещение: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).
2. Самопожертвование Иисуса ради нас было добровольным. Никто не отнимает ее [жизнь] у Меня, но Я Сам отдаю ее (18). Поэтому приговор Иисуса зависел не от Иуды, не от Каиафы, не от Пилата или синедриона, а только от Самого Иисуса. Он отдал нам Себя добровольно.
3. Видения Иисуса охватывают не только смерть, но также и воскресение, которое последует за ней (18). В самом деле, смерть сама по себе — это форма возвышения, после которой обязательно следует воскресение. При таком глубоком понимании смерти действительно «невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24).
4. Все, что делает Иисус, Он делает, повинуясь Отцу (18). Он навеки един с Отцом и, как Сын, всегда подчиняется Ему. В этой взаимозависимости кроется не только загадка Троицы, но также тайна Его миссии.
3) Последствие (10:19–21)
Снова слова Иисуса привели к распре, возможно, потому что близится Его «час». Иисуса и ранее обвиняли в одержимости бесом (20; ср.: 8:48; 10:21; ср.: Лк. 11:15 и дал.). Та готовность прибегнуть к суду, которую выказали власти, свидетельствует об их возросшем негодовании. Обвиняя Его, они оказываются все ближе к непростительному греху (Мф. 12:24–32) — преднамеренному нежеланию принять Святой Дух[124]. Это обвинение свидетельствует также о решительности противников Иисуса и их нежелании видеть свет, что, к сожалению, ведет к одному — к погружению в вечный, беспробудный мрак.
Что нам делать с этим человеком? Как отнестись к Его беспрецедентным заявлениям и тому необычному сознанию, которое в них просматривается? В этих диалогах видно уникальное самосознание, дополняющее портрет Иисуса в этом Евангелии, книге, которая, как мы помним, наполнена элементами живого свидетельства современников Иисуса. Этот «разум» наблюдается, однако, не только у Иоанна. Иисус, изображаемый авторами трех других Евангелий, делает такие же ошеломляющие заявления, свидетельствующие о беспримерном самосознании (ср.: Мф. 4:19; 5:17,22,28; 9:2; 10:37; 11:6 и дал., 25–30; 12:40–42; Мк. 13:26; 14:22,62; Лк. 4:21; 18:22; 20:17 и т. д.).