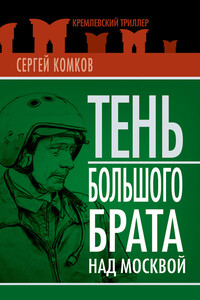Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали | страница 19
Зато экономист Лариса Пияшева в «Континенте» не менее яростно атаковала политику российской власти, утверждая, что все неудачи реформ вызваны непоследовательностью и недостаточным радикализмом. А любимец Международного валютного фонда Егор Гайдар повторял, что в те годы, пока он был у власти, все делалось правильно, и без решительного натиска ничего не удалось бы сдвинуть с места.
Вполне естественно для бывших министров говорить о том, что при них курс был верным, и лишь после их отставки правительство забрело в дебри бюрократизма и неэффективности. Но люди, возглавившие правительство после отставки Гайдара в 1993 г., напоминали, что в отличие от «идеологов-романтиков» они — профессионалы, знающие технику управления. И именно их методы соответствовали ситуации в государственном аппарате, который, кстати, даже самые радикальные критики бюрократизма разрушать не призывали.
Именно старая номенклатура, доведшая страну до кризиса, оставалась единственной социальной группой, способной контролировать обстановку, возглавить преобразования. Номенклатура уже не могла управлять по-старому, но никто не мог заменить ее у государственного руля. Не существовало нового класса, который мог бы отнять власть у старой олигархии и сформировать новую модель общества. В 1989—1990 гг. в Советском Союзе стремительно выросло мощное оппозиционное движение, представленное в Верховном Совете, выводившее на улицы многотысячные толпы, взявшее под свой контроль Москву и Ленинград. Однако за исключением академика А. Д. Сахарова, игравшего, скорее, символическую роль, старые диссиденты почти никогда не занимали важного положения в этой оппозиции. Все ключевые посты и здесь оказались у людей из старого аппарата. И Борис Ельцин, и Юрий Афанасьев, и Николай Травкин, и Иван Силаев, ставший премьер-министром России после победы «демократов» на республиканских выборах, и Г. X. Попов, будущий мэр Москвы, не только занимали важные посты в старой системе, но, что главное, именно их положение в системе позволило им стать политическими лидерами.
Сомнительно, чтобы Ельцин был кому-нибудь интересен в 1988—1989 гг., если бы не был ранее кандидатом в члены Политбюро КПСС. Если бы Юрий Афанасьев не являлся ректором Историко-архивного института, а еще раньше — одним из руководителей комсомола, вряд ли его имя было бы известно даже среди историков. Маловероятно, что они смогли бы, не будучи причастными к власти, обнародовать свои взгляды в официальной печати, все еще находившейся в руках государства.