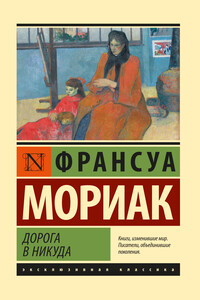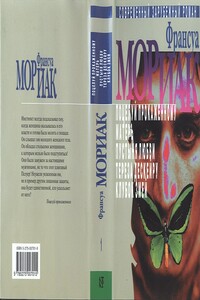Не покоряться ночи... | страница 73
Не только воспитатели, но и критики попадают впросак, если молодой писатель, чье творчество они обсуждают, не рассматривается ими как некая «множественность». Например, стоит ли сомневаться, насколько глубоко уверовал Морис де Герен, когда согласился принять причастие перед смертью? Из того, что он не устоял перед Кибелой и конец его жизни был посвящен обожанию сотворенного им мира, не спешите заключить, что этот пантеист утратил надежду, свойственную христианину. В его словах нам слышится ропот смешанных и враждующих между собою чувств. «Молодость, — говорит он, — похожа на девственные леса под порывами ветра; щедрые дары жизни колеблются во все стороны, и в листве никогда не смолкает глухой ропот».
Юность страдает от этой внутренней разорванности. Разумеется, и зрелому человеку знаком такой разлад; но к середине жизни мы смиряемся с необходимостью подчиняться известным силам, а если и колеблемся, то даже наши колебания упорядочены; мы по очереди уступаем противоречивым желаниям; мы уже способны постигнуть законы, управляющие отливами и приливами в наших сердцах. А молодой человек хотел бы сделать выбор, принять решение, ни в чем не поступаясь своей безмерной требовательностью; потому-то любовь и даже дружба оборачиваются для него одиночеством: дело в том, что самая чуткая возлюбленная, самый проницательный друг скользят лишь по поверхности его облика. Он не смиряется с неизбежностью, обрекающей нас делать окончательный выбор и отказываться при этом от всего остального, заставляющей женщину или друга конструировать нас только из некоторых элементов, не зная и отвергая при этом все остальное.
Мы удивляемся, как это мистики с самого отрочества отдавались любви к богу; на самом деле удивляться тут нечему: нашу юную требовательность может удовлетворить только бесконечно могущественное существо — ему ведомы истоки самых тайных наших мыслей, и все закоулки сердца, и та кровоточащая рана, о которой никто не знает и на которую мы сами не осмеливаемся взглянуть.
Бывает, что современные молодые люди, отнюдь не страдая от внутреннего разлада, мучающего «сыновей века», отдаются без сопротивления водовороту собственных противоречий. Отчаявшись нащупать твердую почву, они уговаривают себя, что множественность — это и есть свойство их натуры. Их единственный закон — повиноваться своим побуждениям и не препятствовать им ни в чем. Они полагают, что даже мораль, и уж тем более логика, деформирует их личность. Можно подумать, что подсознание для них — это божество, в руки которого они предаются, словно бездыханные тела; они ищут ответа на вопросы у собственных сновидений и грез, словно видя в них оракулов этого тайного божества. Они простодушно чванятся тем, что истово следуют противоречивым велениям божества; они — бродячий хаос и сами себя воспринимают как хаос.