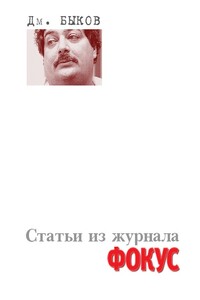Не покоряться ночи... | страница 31
В то время мы занимали два этажа в старом величественном особняке на углу улиц Марго и де Шеврю, рядом с «иезуитником» (который Комб * очищал тогда от его набожных обитателей и часовня которого, называвшаяся часовней Марго, всегда была переполнена). Под негромкий звон колокола пустая улица внезапно заполнялась тенями, спешившими к заутрени. Эти старушки, такие же трогательные, хотя и не столь трагичные, как у Бодлера *, едва успевали, должно быть, заколоть свои жидкие волосы и влезть в юбки. Обутые в войлок, они с елейными лицами брели, прижимаясь к стенам. Мы пересчитывали этих святых женщин, называя по кличкам, которыми сами их наградили, и забавлялись так до тех пор, пока грохот колес не возвещал издалека о приближении «маршрутки». В те дни, когда мы опаздывали, она немного замедляла ход, и кучер щелкал кнутом. Но чтобы она не застала нас на нашем наблюдательном посту — такое случалось редко. Мне нравился запах кожи от этой старой колымаги, следовавшей запутанным маршрутом. У меня было добрых полчаса на то, чтобы подремать, закутавшись в пелерину и натянув на голову капюшон, что делало меня похожим на маленького капуцина. Мой взгляд был прикован к крупам першеронов, на которые падал свет от фонаря. Мутный рассвет занимался над пригородом. Жалкие школьные заботы не выходили у меня из головы. Никогда потом я не чувствовал себя таким слабым, обделенным, потерянным. Впоследствии, чтобы вновь почувствовать вкус этих ранних часов моих давно минувших дней, мне достаточно было повторить про себя строки Рембо:
Я вдоволь пролил слез. Все луны так свирепы,
Все зори горестны... >1
>1 А. Рембо. Пьяный корабль. Цит. по: Б. Лифшиц. Французская лирика XIX и XX веков. ГИХЛ, 1937, с. 97.
Горестные зори, сумрачный город, стремление бежать. Вот когда для заледеневшего детского сердца поиски бога становятся привычкой. В дождь стекла экипажа, особенно заднее, к которому я прислонялся лбом, напоминали мне залитые слезами лица. На фоне неба чернели силуэты деревьев Гран-Лебрена. Огромное со светящимися окнами здание походило на пакетбот.
Мы попадали в класс, обогревавшийся первыми радиаторами парового отопления; мы погружались в запах пансионеров и кислый, неизъяснимый, но не вызывавший во мне отвращения запах надзирателя. Полчаса на чтение религиозных текстов, затем короткая перемена и, наконец, два часа занятий; еще четверть часа на игры и снова уроки — до полудня. В половине второго работа возобновлялась и продолжалась до половины седьмого с одним получасовым перерывом на полдник. Половина седьмого! Мгновение, которое даже сейчас, спустя четверть века, сохранило для меня сладостный привкус освобождения. Правда, во время долгих вечерних занятий я больше не чувствовал себя несчастным. Миг возвращения домой был близок, мне ничто больше не угрожало. В те долгие часы, которые можно было посвятить приготовлению домашних заданий, я вел дневник или сочинял стихи. Потребность писать овладела мною очень рано: в этом я находил избавление. Чего бы я ни отдал, чтобы вернуть тайные тетради отроческой поры, которые имел глупость сжечь! Сквозь оконные стекла мой взгляд устремлялся к небу. Иногда, отпросившись в уборную, я получал возможность выйти из класса. Не торопясь, шел я по пустынному двору, вдыхая тьму, пахнущую гнилыми листьями, туманом, хотя к этому своеобразному запаху пригорода примешивалось какое-то городское зловоние. В тот период жизни «безмолвье вечное просторов бесконечных» * если уж не пугало меня, то по крайней мере являлось для меня реальностью, и я воспринимал его без труда. Мглистое небо — и то было для меня средством бегства от действительности; я использовал любую лазейку, через которую мой взгляд и мысль могли вырваться на простор. Вероятно, я, сам того не сознавая, пребывал тогда в состоянии поэтического транса, стремясь преобразить все, что составляло мою жалкую жизнь. То была пора, когда меня начали окружать поэты, служа мне, как служили в пустыне ангелы сыну человеческому. Между реальностью и собой я воздвиг барьер из всей лирики прошлого столетия. Ламартин, Мюссе и Виньи вошли в мою жизнь первыми, но я научился находить изумительные по красоте строки и у современников, вплоть до Сюлли-Прюдома * и Самена *! Верлен, Рембо, Бодлер и Жамм * появились лишь по окончании коллежа.