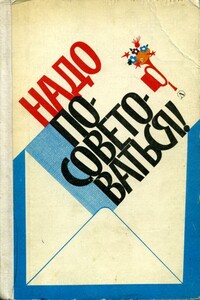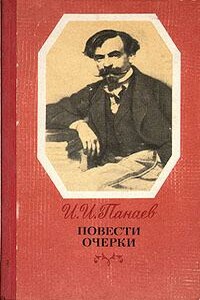Не покоряться ночи... | страница 19
Однако вернемся к этой первой — и последней — главе моих воспоминаний. Меня изумляет, сколь вольно я обошелся в ней со своим детством, представив его как пору одиночества и печали. В действительности у меня было много друзей, и ни один из них не обнаруживал большего, чем я, пристрастия к бесконечным разглагольствованиям, откровенности, письмам. Так ли уж велико было мое отчаяние? Свободные от занятий дни казались мне слишком короткими, потому что я хотел успеть все сразу: повидаться с двоюродными сестрами, проглотить книгу, побывать на ярмарке.
Из всех удовольствий одно я ценил особенно высоко и обязан им был как раз той меланхоличности, которой не раз щеголял в воспоминаниях. Помню свое восхищение, когда в шестнадцать лет открыл в «Свободном человеке» Барреса * дивный афоризм: «чувствовать как можно больше, подвергая себя как можно более глубокому анализу». Он привел меня в восторг. Это было то, чем я занимался с сознательного возраста. Ребенок играл в самую захватывающую из игр — одиночество и непризнанность... Вероятно, какой-то инстинкт подсказал ему, что тут нечто гораздо большее, чем просто игра: это подготовительная работа, упражнения для того, чтобы стать литератором. Созерцать собственные страдания и находить в этом удовольствие — верный признак писательского призвания; но для начала надо страдать, и я, помню, изводил себя по любому поводу...
Осторожно! Этак я встану на путь, пойти по которому значило бы открыть в себе ребенка, чуждого мне еще более, нежели тот, чьи черты я попытался недавно воссоздать.
Значит ли это, что своими воспоминаниями автор вводит нас в заблуждение относительно себя самого? Ничуть не бывало: главное — уметь их читать. Именно то сокровенное, что просвечивает в них вопреки воле писателя и говорит нам о нем больше всего. Истинный облик Руссо, Шатобриана, Жида постепенно вырисовывается в филиграни их исповедей и мемуаров. То, что ими замалчивается (пусть даже хорошее), то, что ими выставляется напоказ (пусть даже дурное), помогает нам разглядеть черты, которые они порой затушевывали с большой тщательностью.
Было бы, однако, крайне неверно думать, что автор намеренно, желая ввести нас в обман, приукрашивает свои воспоминания. На самом деле он подчиняется необходимости: надо, чтобы то зыбкое, бывшее в прошлом его жизнью, замерло, застыло под его пером. То же — с чувством и страстью, некогда им владевшими: в реальной жизни они перемешались с массой других ощущений, сплелись в сложный узел; ему же надо отделить их друг от друга, разграничить, придать им форму, не принимая в расчет ни их продолжительности, ни их неуловимой эволюции. И вот он невольно лепит из материала своего насыщенного прошлого эти образы, столь же произвольные, как созвездия, которыми мы заселили ночь.