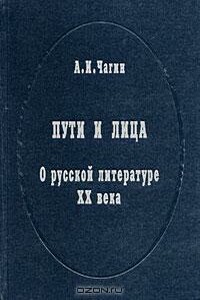Творец, субъект, женщина | страница 33
(см.: Wanner 1996, 195)
Помимо собственно творчества Бодлера, как показывает Баннер, символистов заинтересовало и бодлерианство, интерпретированное в духе жизнетворчества (Wanner 1996, 196). Исследования Н. Богомолова (например: Богомолов 1999, 224–239, т. е. статья «Эротика в русской поэзии», ориг. 1991 года) ярко иллюстрируют то, что «декаданс» — сексуальность и эротика — имел посредническое значение для конструирования новой эстетики у К. Бальмонта и В. Брюсова. Хотя русская и западная модернистская культура во многом совпадают на репрезентативном уровне, однако в категории фемининного явных параллелей между русской и западной культурами не наблюдается. По моему мнению, одной из причин этого является то, что западная культура fin de siècle, будучи также наследницей романтизма[52], не имела такого влиятельного посредника между романтизмом и модернизмом, каким в России был Владимир Соловьев[53].
Иначе обстоит дело в популярной культуре. Массовая литература быстро усваивала «ницшеанскую» переоценку ценностей и «бодлеровские» женские образы. Пол и сексуальность тематизируются в таких произведениях, как, например, «Санин» Арцыбашева, «Ключи счастья» А. Вербицкой, «Женщина на кресте» А. Мар или «Гнев Диониса» Е. Нагродской. Если в произведениях символистов пол и сексуальность имеют какие-то символические функции или метафорические значения, то в массовой литературе на первый план выступают эпатаж и социальные аспекты пола и гендера. В вышеперечисленных произведениях женские персонажи, действительно, не символизируют эстетических концепций. Тем не менее они также оказали влияние на формирование символистской эстетики и ее концепции фемининности. Когда, например, популярный образ femme fatale распространился из «высокой» литературы в массовую, он стал символизировать активность и самостоятельность женщины.
Дискурс «новой женщины»
В западной культуре понятие «новой женщины» закреплено для обозначения нового типа женского поведения, которое встречается и в социальной деятельности, и в художественных произведениях конца XIX — начала XX века. Категория «новой женщины» тесно связана с женским движением, которое было весьма активным также в России в тот период. Отношение символистов к женскому движению было напряженным по многим причинам. Во-первых, вместо социального обновления «новое искусство» стремилось к обновлению культуры, духовности и — через это — отдельных индивидов. Во-вторых, женское движение ассоциируется, скорее, с культурой низкой и массовой, а символизм выделял себя как культурное «высокое». Женское движение начала XX века тесно связано со стремлениями рабочего населения, но было много таких организаций, в которых участвовали женщины из высших слоев общества. Появились различные женские журналы, женские организации. Хотя отдельные авторы символистского круга (А. Чеботаревская, Н. Колмыкова, отчасти Л. Зиновьева-Аннибал) пересекали границу элитарно-массового и духовно-общественного, все же на страницах символистской прессы женский вопрос не обсуждали. Однако для исследования концепции фемининного в символистской эстетике существование женского движения и женской эмансипации имеет основное значение