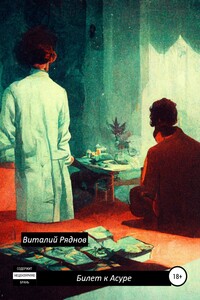Жизнь коротка, как журавлиный крик | страница 11
Утром она же разбудила меня. Мама была уже готова к дороге. Только развиднелось, и поэтому ничего не хотелось есть, но бабушка настояла, чтобы я все же попил калмыцкого чая с лепешкой. После чая она сказала, чтобы я пошел к дедушке прощаться. В его комнате уже было накурено. Дедушка Калятчерий положил свою большую корявую руку мне на голову, сказал, мягко улыбаясь:
«Будь мужчиной» и дал мне денег. Я понял, что это были мои персональные деньги для города, в отличие от маминых денег.
Дядя Гиса вез нас на подводе до хутора Городского. Он всю дорогу объяснял маме, что в Курго уже нечего бояться, что дедушка нас не отпустил, если была бы опасность, что люди уже ходят там свободно и что, если она боится, то пусть пока не поздно возвращается и дожидается попутчиков. Мама ссылалась на крайнюю необходимость быть в Краснодаре. Мне же очень не хотелось возвращаться, манила дорога.
Дальше при всем желании дядя везти нас не мог: предстояла лодочная переправа через глубокую в этом месте речку Пшиш. Потом был еще какой‑то ерик, который мы преодолели в каюке — такой выдолбленной из бревна толстой пироге. Хутора Мелехов и Терновый остались позади, и мы вошли в самую мощную лесную зону Курго.
Мне было и страшно, и любопытно впервые оказаться в Курго, о котором так много слышал. Ждал от него чего‑нибудь необычного, смотрел по сторонам, отставал от мамы. Так шел я до тех пор, пока
в чаще, мимо которой мы проходили, не раздались треск, возня, топот и затем душераздирающий вопль какой‑то твари — не то птицы, не то зверя. Мама покраснела от ужаса и стала причитать: «О, гос-. поди, какой только хаце — паце здесь не водится». И хотя после этого вопля воцарилась тишина, она казалась неустойчивой и тревожной. Мама взяла меня за руку, и мы ускорили шаг.
Лес стеной подступал к дороге. Порою наверху ветви образовывали темно — зеленый длинный тоннель. В таких местах мама читала молитвы из Корана. Она впервые здесь шла одна со мной. Раньше она ходила чаще всего с Салехом, другой дорогой. Ее страх передавался и мне. При каждом шорохе у нас замирали сердца и мы ускоряли шаг. Мы шли и шли, а лес становился все более дремучим и безмолвным. Я вспоминал, как вечером, накануне отъезда, зашедшая к нам соседка Хания отчитывала маму за то, что она все же решилась одна со мной идти через такой лес. «Там могут быть и бандиты и не успевшие уйти немцы — мало л и кто может там быть?»
— стращала она. И сейчас я видел по маме, что она сожалеет о том, что решилась идти одна, без попутчиков. Несколько раз я слышал, как она чуть ли не со слезами говорила: «Права Хания, права ты…» Эти восклицания повторялись каждый раз, когда после поворота дорога снова уходила в таинственную темноту лесной чащи. Но и возвращаться было нельзя — надо было добраться до города. Единственной надеждой мамы оставались молитвы из Корана, которые она все время шептала.