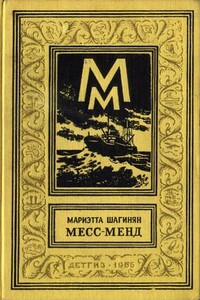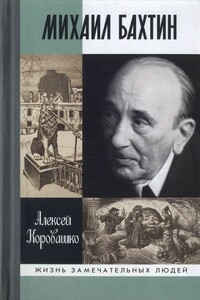Иозеф Мысливечек | страница 27
Где же, где звуки его, запертые в мертвых нотных знаках, рассеянные по множеству городов, библиотек и архивов? И почему не работают над воскрешением этих звуков у него на родине ученые-музыканты так, как работали немцы, французы, англичане над наследием других великих старых мастеров — Баха, Генделя, Глюка, организуя, расшифровывая, обрабатывая их для современного исполнения?
Но тут я вижу обращенные ко мне глаза читателей. Наверное, многим из них уже пришел в голову вопрос:
— Позвольте, вы вдруг обратились к Мысливечку, отказавшись от Моцарта, покоренная его несчастьем и человеческими достоинствами. Но ведь этот Мысливечек — музыкант, композитор. Как же вы хотите писать о нем, не зная самого главного, его музыки?
Музыка… но ведь и у меня началось именно с музыки, как все начинается с музыки, с первого музыкального лепета вашего ребенка, с первого звука материнского голоса, поющего колыбельную, со щебета птички за окном, с песни дождевой капели, с шума листьев под ветром, с беззвучной музыки любимого лица, любимого воспоминания, взятого могилой. На этот раз все началось с настоящей музыки, хотя я ее забыла, — забыла вплоть до встречи с человеком Мысливечком на страницах письма Моцарта от 11 октября 1777 года.
Это было раньше, гораздо раньше, на чешской земле, в ту пору еще мне мало знакомой, — лет девять назад, если не больше. Я лечилась в Карловых Варах, когда ко мне приехали гости, писатели из Праги. У них в руках был огромный ящик, и они тащили его ко мне на пятый этаж.
У братских республик, как и у нас тоже, был в те годы обычай щедро задаривать приезжих гостей. Специально для таких даров печатались на хорошей бумаге альбомы видов и произведений искусства, делались громоздкие вазы, закупались кустарные игрушки, от массового спроса давно перешедшие из рук кустаря на фабричный конвейер, словом, это как бы вызвало даже особый вид местной промышленности — «подарочный». Презентуя увесистые папки и картонки, наполненные папиросной бумагой, облегающей вазу, дарители мало задумывались над тем, как это все повезет гость в своем дорожном чемоданчике и куда сунет, добравшись до своей тесной жилплощади. Вот почему я сразу испугалась, увидя ящик в руках дорогих гостей.
Но когда они отдышались, развязали веревку и подняли крышку, я поняла, что на этот раз буду их от сердца благодарить и даже не знаю, как отблагодарить, куда усадить, чем угостить, — ведь дар оказался драгоценный, единственный, такой, что захочется лучше потерять чемодан, чем этот ящик. В нем было свыше пятидесяти пластинок чехословацкой музыки, чуть ли не с XI века до XIX: от древних хоралов, которые так мне хотелось прочесть на голос еще при посещении музея в пражской Бетлемской капелле, до мадригалистов, полифонистов XIV века, хоров, дуэтов, оркестровых охотничьих сюит, ранних симфоний, народных песен, церковных месс и реквиемов, народных танцев — ну, словом, это было богатство, какое сейчас, когда пишу, можно найти разве только в музеях или «театрах музыки», где дают вам послушать с пластинок хорошо исполнявшуюся и записанную на пленку интересную музыку.