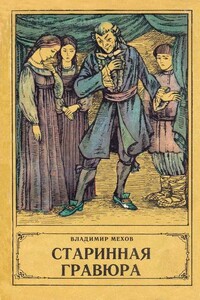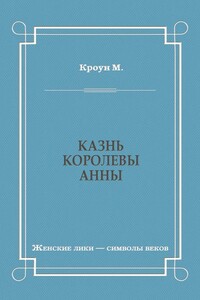Две столицы | страница 53
Гамалея усмехнулся:
— Невозможно. Но не всякое просвещение полезно. Если речь идёт о французских энциклопедистах, то они наравне с проповедью равенства проповедуют и полное отрицание нравственности, поощряют любовную распущенность и человеческие пороки, смеются над стремлением человека познать своё духовное начало…
Фонвизин нетерпеливо передёрнул плечом:
— Стоит ли говорить о философии, когда во всей нашей стране, даже среди вельмож, всего несколько человек знают российскую орфографию… И когда весь народ наш находится в таком рабстве, коего нигде более в мире нет…
— Что же ранее нужно крестьянам — свобода или просвещение? — с раздражением спросил Радищев.
Гамалея встал.
— Рабство позорно. Высшее нравственное начало в человеке несовместимо с угнетением других людей, я отпустил на волю всех своих крестьян. Оно несовместимо также и со стремлением к обогащению. Всё своё состояние я отдал братьям на дело просвещения…
Трубецкой выпил стакан вина, зажёг трубку, затянулся несколько раз, медленно и задумчиво сказал:
— Не знаю. Вы отпустили крестьян, а соседний помещик, вероятно, их уже закабалил. Неведомо мне, и до коей степени можно идти противу натуры. Любовь есть чувство, природою в нас впечатлённое, которое один пол имеет к другому. Все одушевлённые твари чувствуют приятность, горячность, силу и ярость оного. Рассматривая любовь при ея источнике, видим, что сие чувствование равно сходно ленивому ослу и разъярённому льву…
Гамалея с сожалением посмотрел на Трубецкого.
— Любовь есть священное соединение полов в нравственном и телесном смысле для продолжения рода человеческого. Что же касаемо до освобождения крестьян, то я не вижу иного пути, кроме добровольного отказа от владения ими.
Радищев вскочил:
— Такой путь есть. Силой разбить оковы.
Гамалея усмехнулся.
— Тогда переменятся только роли. Угнетаемые сами превратятся в угнетателей…
— Но угнетателей тысячи, а угнетаемых миллионы.
Гамалея направился к выходу, он не привык спорить и не считал это полезным. Уходя, он добавил:
— Важен принцип. И к чему говорить о стаде, когда пастыри, — он рукой указал на присутствующих, — сами ещё не совершенны и не едины в мыслях…
Когда он вышел, все почувствовали облегчение.
— В нём есть какая-то сила, — задумчиво сказал Херасков.
— Как у всякого аскета, — ответил Трубецкой. — Однако интересно знать, зачем он приходил? Все мы исполняем свои обязанности перед отечеством, жертвуя средства на просвещение, борясь с невежеством дворянства, с жестокостью помещиков и произволом чиновников… Чего можно от нас более требовать?