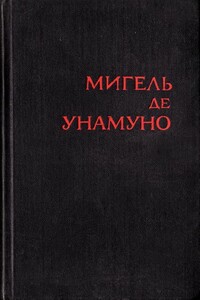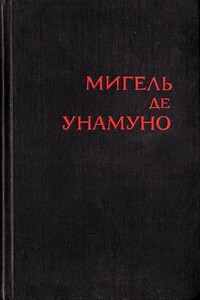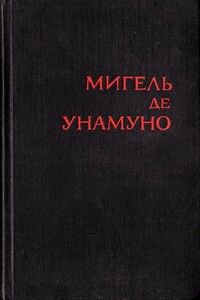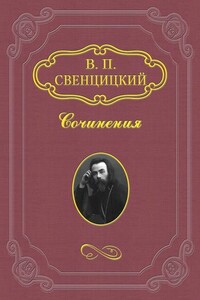О трагическом чувстве жизни у людей и народов | страница 51
Ради имени приносится в жертву не только жизнь, но и счастье. Жизнь - это само собой. «Пусть я умру, да здравствует моя слава! ", - восклицает в Юношеские годы Сида{58} Родриго Ариас, смертельно раненный доном Диего Ордоньес де Лара. Человек в долгу перед своим именем. «Мужайся, Иероним, тебя будут помнить долго; смерть горька, но слава вечна! " - воскликнул Иероним Олгиати, ученик Кола Монтано и примкнувший к Лампугнани и Висконти убийца миланского тирана Галеаччо Сфорца. Найдутся даже такие, кто ради того, чтобы стяжать себе славу, жаждут виселицы, быть может, даже бесчестья: avidus malае famae{59}, как сказал Тацит.
А геростратство, что оно, в сущности, такое, как не жажда бессмертия, - если не настоящего субстанциального бессмертия, то по крайней мере хотя бы призрачного бессмертия имени?
И здесь имеется определенная градация ступеней. Тот, кто пренебрегает аплодисментами толпы сегодня, стремится пережить себя в памяти немногочисленных представителей сменяющих друг друга поколений. «Посмертная слава - удел тех, кто принадлежал к меньшинству», - говорил Гуно{60}. Такой художник стремится продолжить себя скорее во времени, чем в пространстве. Идолы толпы вскоре ниспровергаются самой же толпой, их монумент разбивается у подножия пьедестала и никто на него не глядит, в то время как тот, кто овладеет сердцами немногих избранных, получит более долгое время ревностного культа, по крайней мере лишь в избранном и узком кругу, но зато спасающем его от половодья забвения. Такой художник широту своей славы приносит в жертву ее долговечности; он жаждет скорее, чтобы слава его длилась вечно в каком-нибудь уединенном уголке, чем лишь на миг блеснула в целом мире; ему желаннее быть вечным и наделенным самосознанием атомом, нежели мгновенной вспышкой сознания целой вселенной; бесконечность он приносит в жертву вечности.
И снова наш слух терзает навязчивый припев: «Гордыня! Гордыня смердящая!". Желание оставить после себя неизгладимое из памяти имя - это гордыня? Гордыня? Это все равно что, говоря о жажде удовольствий, отождествлять ее с жаждой разбогатеть. Нет, не столько жажда наслаждений, сколько страх перед нищетой заставляет бедняков искать денег, точно так же как не желание славы, а страх перед адом привлекал людей средневековья к суровой монашеской жизни. Нет, это не гордыня, но страх перед ничто. Мы стремимся быть всем, потому что в этом мы видим единственное средство не обратиться в ничто. Мы хотим сохранить память о себе, хотя бы память о себе. Насколько же долго может она продлиться? Настолько, насколько вообще продлится существование рода людского. Но сохраним ли мы память о себе в Боге?