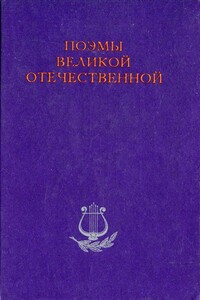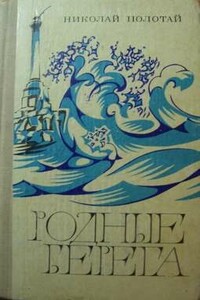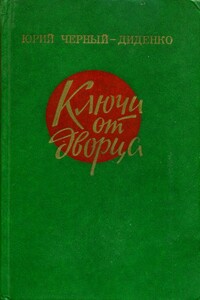Добровольцы | страница 33
Так и есть, опустил голову и тихонько всхлипывает.
— Что с тобой? — испугалась я. — Болит что-нибудь?
— Нет!
— Отчего же ты плачешь?
— Так, жалко…
— Кого жалко, глупенький? — допытывалась я, уже понимая, что его болезненно чуткая, нежная душа не могла иначе отозваться на скорбную красоту музыки Шопена, как слезами и чувством неясной тоски.
— Не знаю, всех жалко: и вас, и дяденек, и себя, — пытался он объяснить свое настроение.
Мы переглянулись.
— Я не буду больше играть, не хочу, чтобы ты плакал.
— Да нет же, я по-хорошему плачу, не горько, а как от радости или от жалости плачут.
Он бывал счастлив, когда приходили письма от Игната, тот подробно описывал жизнь роты, бои, посылал бесконечное количество поклонов от дяденек, от Мишки, ротного козла, и желал скорого выздоровления. Но меня удивляло, что война как-то совсем отошла от Василька, он очень редко рассказывал о зиме в окопах, об атаках, разведках.
— Тебя очень тянуло на войну, Василек? — спросила его как-то Надя, он задумался:
— Сначала хотелось, а потом… Видно, маленький я, душа еще слабая, не могу видеть, когда люди мучаются! Меня еще в деревне дети «девчонкой» звали за то, что всегда подбирал я котенка или щенка брошенного и домой нес. Учился бы я! — оживляется он вдруг, — все книги, какие есть на свете, прочел бы! А может, и сам бы написал когда-нибудь большую книгу. Сумею я, Люшенька? — как всегда за подтверждением своих планов обращается он ко мне.
— Сумеешь, Василек! — улыбаюсь я ему.
Он охотно и много рассказывал о своей жизни в деревне, нас поражало, как остро он чувствовал красоту природы и проникался ею.
— Убежишь в поле или в лес, ляжешь на спину, слушаешь, смотришь… Рожь вся золотая, как риза у батюшки в большой праздник. Дунет легкий ветерок и колосья точно закланяются ему. Березки шелестят и кажется, будто девушки в воскресенье на улице смеются; дуб тяжело шумит, на старосту важного похож, а осинки — те, как ребятки пугливые, все дрожат да шепчутся: «Ой, боюсь, ой, страшно!»
Ходить наш Василек уже не мог, иногда я обнимала его и он пробовал сделать два-три шага, но сейчас же бессильно повисал на моих руках.
— Видно, долго еще мне не встать! — печально говорил он. Приезжал доктор, выслушивал его, задавал вопросы, мы следили за выражением его лица, но оно было непроницаемо.
Как-то мама спросила его в гостиной:
— Что, доктор, есть надежда? Ему как будто лучше немного! Он нахмурился.
— Это так, временно. Зато ухудшение пойдет быстрыми шагами, сгорит в месяц. Я это говорил с самого начала!