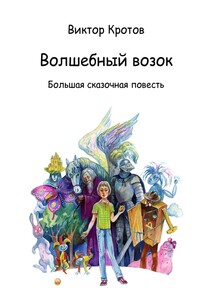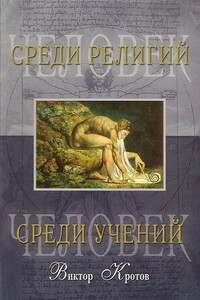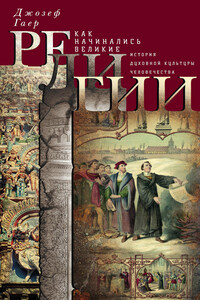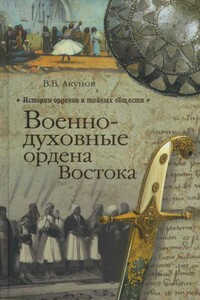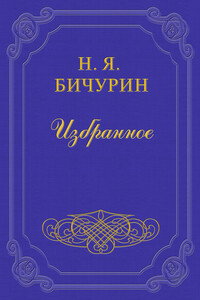Человек среди религий | страница 14
Но здесь есть и оборотная сторона медали. Активнее вторгаясь в повседневную жизнь человека, религиозные учения могут оказывать на него чрезмерное психическое давление, обволакивать его традицией и ритуалом, снижать критичность восприятия. Попадая в психологическую зависимость от хорошо разработанной ориентирующей системы, человек лишается внутренней свободы собственного ориентирования (включающей и постоянную возможность переориентации). Философскому учению, если оно не превратилось в идеологию, это не свойственно. Оно само вырастает из свободы миросозерцания и подразумевает её в собеседнике.
Так или иначе, какими бы свойствами ни обладали ориентирующие учения, они возникают из внутреннего опыта многих людей, но опираются на внутренний опыт отдельного человека, на те постижения, через которые он проходит сам. Они могут интерпретировать переживания человека, могут говорить о недостаточности внутреннего опыта и сулить ему новые важные постижения в будущем, но только наш собственный внутренний опыт (и внешний, конечно, являющийся во многом его источником) позволяет учению вступать с нами в ориентирующие отношения.
Поэтому каждый человек является одновременно и полем сражения учений, и их полновластным арбитром – хотя бы для себя самого, хотя бы на сегодняшний день. И какой бы кредит доверия я ни оказал учению, рано или поздно должен настать момент, когда я спрошу себя о том, насколько предложенные им картины мироустройства совпадают с тем, что я вижу вокруг, и с тем, что я переживаю.
Спекулятивные учения боятся этого момента и стараются даже исключить его возможность с помощью психического воздействия. Будем внимательны!
Между внутренним и внешним
Философия не может свести все средства ориентирования в какую-то единую систему, хотя многие учения и пытаются сделать нечто подобное – в естественных поисках убедительности. Условной является и та модель, которая говорит о разуме и чувствах как об основных реалиях внутреннего мира. Иногда ориентирующие нас импульсы имеют настолько своеобразный характер, что нет смысла притягивать их к этой схеме.
Примером может служить та внутренняя позиция, которую можно назвать экзистенциальной точкой виденья. Речь идёт об особом свойстве сознания (это может быть органичное душевное свойство или выработанная способность) уводить своё внимание и от внутреннего и от внешнего мира. Такое состояние позволяет нам получить доступ к новым ориентирам, не входящим во внешнюю картину мира и не принадлежащим к собственно внутренним переживаниям. Мы как бы заглядываем в щель между этими мирами. Или – начинаем непосредственно улавливать идущий в наше сознание свет сверху. Или – входим в соприкосновение с реальностью более высокого плана, чем внешняя или внутренняя реальность…