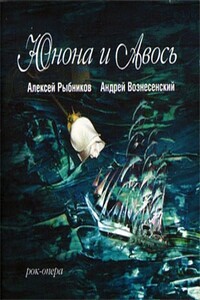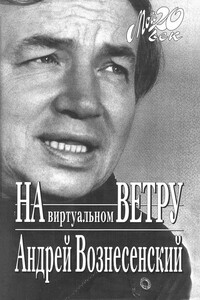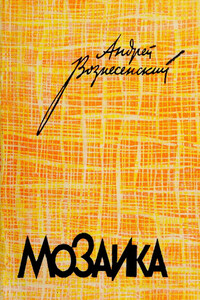Прорабы духа | страница 64
Говорили, что прибыл состав с ленинградцами. «Доходяги», — жалели их.
Экономные цигарки скручивались из крупно нарубленного самосада. Газеты ценились. Табак рос на огородных грядках темными лапушными листьями.
К соседке ездил вздыхатель, пожилой шофер из летной части. Машину он заводил во двор, к крыльцу. Мурка выжидала.
Один раз он привез ей апельсин. Видно, их выдавали летчикам. Апельсин был закутан в специальную папиросную бумажку. Мурка развернула ее и разгладила на коленке. Коленка просвечивала сквозь белую бумагу, как ранее апельсин. На бумаге было напечатано круглое солнце с лучами и какая-то надпись по-грузински.
«Дар солнечной Грузии», — сказал Потапыч. Мурка сложила бумажку, как платочек, в четыре раза и сунула в карман ватника.
— На табачок хорошо, — сказала хозяйка.
«Хорошо через папиросную бумажку на гребенке дудеть», — подумал я. Я знал апельсины по первомайским демонстрациям и новогодним елкам.
Мурка дочистила кожуру до донышка, где мякоть образует белый поросячий хвостик. Кожуру положила в карман ватника.
Она ела апельсин, наверное, полчаса. Долька за долькой исчезали в красивой ненасытной Муркиной пасти. Когда осталось две дольки, она сказала мне: «На, школьник, попробуй». И дала одну. Скулы свело от счастья.
Рядом остывал мотор «студебеккера». Сибирские сумерки пахли бензином и апельсинами. Этот запах мешался с запахом махорки, псины и молочным запахом тесового крыльца, только что вымытого горячей водой.
Потом они сидели, обжимаясь, в кабине, подсвеченные красным щитком, и слушали радио при включенном двигателе. Стекла они опустили, чтобы было слышно всем.
Шла трансляция из Ленинграда. Негромкая музыка была хриплой, режущей, непонятно страшной и великой — до кожи продирало.
Слушали напряженно. Лица все чаще озарялись и гасли. Поблескивал Тобол. Все, что они слушали, было про них, про их судьбы. Они не понимали всего, о чем писал композитор. Но все, что происходило с ними, со страной, стало музыкой, страшной и великой.
Останавливались у частокола.
— Что такое передают? — спрашивали.
— Шостаковича, — не сразу сказала Мурка.
— Доходяга, а какую симфонию написал! — сказал Харитоныч.
Обрубок рельса висел на краю деревни. К нему вела скользкая обледенелая тропа. Он висел на огромном суку березы, на таком же светло-сером небе, висел как хмурый пугачевец или Франсуа Вийон российских рельс.
В тихую ночь он обманно поблескивал, как отрезок запретного отвесного пути к Луне.