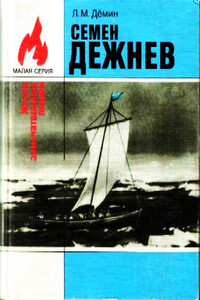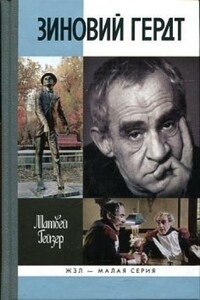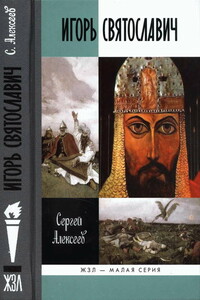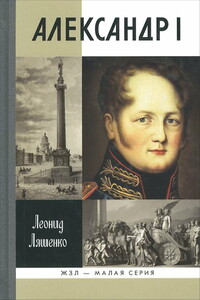Киплинг | страница 32
На языке Киплинга такие рассказы «просты», на языке Бабеля — «базарны», на языке же Оскара Уайльда, одним из первых обратившего внимание на «индийского Брет-Гарта», — «вульгарны». «Когда листаешь страницы „Простых рассказов с гор“, — не без свойственной мэтру снисходительности писал о Киплинге эстет Уайльд (обратите внимание: не „читаешь“, а „листаешь“), — кажется, будто… жизнь проходит перед тобой в ослепительных вспышках вульгарности»[8]. И то сказать, что может быть «базарнее», «вульгарнее» сюжета такого, например, рассказа, как «Ложный рассвет», где герой во время ночного пикника из-за песчаной бури (напрашивается аналогия с пушкинской метелью) объясняется в любви не той, кого любит? Но зато каково описание самой песчаной бури! Еще раз вспомним Уэллса: «…вбил нам в голову звенящие и неотступные строки». Уэллс прав: из творивших тогда английских живых классиков на такое едва ли кто был способен. Не потому ли Уайльд предпосылает «вульгарности» словосочетание «ослепительные вспышки»? Действительно, рассказы просты — в том смысле, что незатейливы, что являются физиологическими очерками из жизни «никчемных, „второстепенных“» (опять же Уайльд) англо-индийцев. Однако, наряду с этим, с первых же строк рассказчик погружает читателя в богатую, «ослепительную» местную экзотику, экзотику слов и нравов, — главную примету неоромантического видения мира и в то же время свидетельство достоверности повествования. Английский читатель, для которого и сам жанр новеллы в викторианский век романа был жанром экзотическим, едва ли понимал, что такое пагри на шлеме, что это за законы саркари, где находится Дехра-Дун или окрестности Котгарха, «что тянутся до самой Нарканды», какова платежеспособность золотого мухура, чем отличается икка от обыкновенной повозки, как танцуют халь-е-хак и что значит стоять под мимбаром или быть посвященным в Сат-Бхаи. Не понимал, но от этого рассказчика — знатока местных нравов и языков — ценил, пожалуй, еще больше, проникался его повествованием еще глубже.
Сам же рассказчик всячески — и тоже не по-викториански — устраняется из повествования, изымает из него свой голос, подменяя его многоголосьем своих персонажей. Он не морализирует, давая понять, что лишь пересказывает рассказанное другими, записывает услышанное, что он — прием этот, впрочем, не нов, — не автор, а публикатор. «Это не мое сочинение… я только записывал ответы на свои вопросы» («Ворота ста печалей»). «Я всего лишь хор, выступающий в конце с объяснениями… я в счет не иду» («В доме судху»). «Рукопись его попала мне в руки, когда он был еще жив» («Рикша-призрак»), «Единственный мотив, побудивший меня