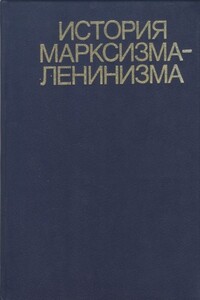От Эдипа к Нарциссу | страница 58
Чем, собственно говоря, отличается взгляде внутренней стороны предела от взгляда на него извне, с дистанции? Можно ответить так. возможностью обеспечить сущее представлением. В самом начале нашего разговора Татьяна упомянула о гнетущем давлении структур. Казалось бы, то, что теснит и угнетает нас в нашем существовании, то и притесняет в качестве структуры. Однако это теснящее поначалу не является конкретной структурой, скажем, структурой власти, знания, идентичности и т.д. До того как оформиться в качестве структуры, это теснящее присутствует в нас как переживание онтологической бесприютности — как неустранимое чувство того, что нас когда-то вытеснили из нашего дома и втиснули в этот мир, в котором мы ощущаем себя абсолютно заброшенными. Структуры, о которых говорила Татьяна, лишь вторично, как мне кажется, притесняют нас, а именно из ситуации, когда мы, будучи бездомными, загоняем сущее в рамку представления. Между тем, раз уж мы пытаемся рассуждать о бытии предела и о настоятельности, которую вселяет в нас опыт трансгрессии, то приходится все дальше и дальше отходить от привычных границ представления, коими прописано бытие-в-мире. А для бытия предела уходить вдаль — то же самое, что и идти вглубь. Нигде граница не является такой далекой, как внутри самой себя. Дело здесь в том, что просто-напросто ломается привычная перспектива, свойственная представлению, и ломается она тем вернее, чем безоговорочнее мы осознаем, что на своем пределе сущее не может быть обеспечено никаким представлением в принципе. Я бы обозначил эту сущность границы, прибегая к высказыванию Хайдеггера, как «Fernste Gegend nächster Nahnis», то есть как отдаленнейший регион, который внезапно оказывается ближе самого что ни на есть близкого. В этом регионе мы перестаем являться субъектами, чье бытие определено синтезом представленного. Если о ком и можно теперь говорить, то исключительно о присутствии. Основная черта присутствия заключается в том, что ни сущее в целом, ни каждая вещь в отдельности не говорит ему: «Ты есть». Ничто не подтверждает его бытие, за исключением, опять же, самого этого Ничто. Оттого оно присутствие, а не субъект, что на вопрос «кто?» должно ответить само, без всякой подсказки со стороны мира, в котором все значимо и все может быть интериоризовано в качестве внутренних примет-симптомов. Я хочу сказать, что для присутствия мир, в котором оно задействовано, — это не дом, а дорога, не извечно то же самое, а всегда иное самому себе. Опыт трансгрессии — лишь самая радикальная из всех путевых стратегий, поскольку время от времени лишает наше существование даже той минимальной определенности выбранного пути, на которую мы рассчитываем. Но в более широком смысле игра трансгрессии и предела состоит в том, что ни одно место, в котором мы застреваем, нельзя до конца принять за собственное, что дом всегда за спиной, а дорога — перед глазами, как бы мы ни вертелись и ни хитрили.