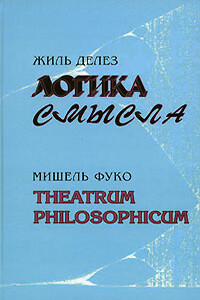От Эдипа к Нарциссу | страница 19
Т. Г.: Мне очень понравилась мысль о жизни и смерти. Левинас пишет, что существует абсолютная асимметрия в этических отношениях. Я должен любить и уважать другого, но не имею права от него требовать того же. Как мы знаем, Левинас отошел от онтологии Хайдеггера, потому что хайдеггеровское бытие не обладает асимметрией, оно отлучает нас друг от друга. А для Левинаса вопрос о другом был наиболее существенным. В понимании Хайдеггера мы существуем как монады, почти не соотнесенные друг с другом. Если мы открыты, то, скорее, не навстречу друг другу, а навстречу Ничто. Я хотела бы продолжить мысль, высказанную Даниэлем, о жизни и смерти. Когда Хайдеггер пишет о бытии-к-смерти, он понимает его крайне активно, как последнюю возможность, которая дает мне еще массу других возможностей и проектов. Только я подумаю, что умру, сразу становлюсь активным, отодвигаю самую последнюю черту, чтобы успеть еще что-то сделать. У Левинаса, да и в православии, говорится прямо противоположное, а именно — смерть делает человека абсолютно пассивным. Сознание собственной смертности должно вселять смирение, потому что здесь от тебя ничего не зависит. Не в твоей власти действовать там, где действует Бог. Поэтому самоубийство оказывается невозможным. Ты не можешь активно выбрать смерть и не можешь ее понять. Что бы человек ни делал как самоубийца, он все делает неправильно. Непроницаемая тайна смерти и страдание другого — вот две главные вещи, над которыми нам стоит задуматься, когда мы говорим о другом. Положим, я страдаю, — это нормально, ничего в этом нет выдающегося. Но когда страдает другой, то я не имею права оставаться равнодушным. Когда другой страдает, я являюсь полностью ответственным, иначе и быть не может. Даже русское слово «ответственность» отсылает к основе «ответ», демонстрируя, что я даю ответ другому. Выше всего моего бытия — ответ на страдание другого. Его страдание абсолютно. Рикер хорошо пишет в одной из книг, что страдание другого передается только в модусе самого этого страдания, у него нет символического уровня. Поэтому я не могу адекватно описать страдание другого художественными средствами, оно передается исключительно как чистый акт. Жизнь и смерть вообще не бывают символическими. Лакан, к примеру, замечает, что любовь есть разрушение всего символического порядка. То же самое здесь: перед страданием другого утрачивается всякий символический порядок. Я смело могу сказать, что страдание другого дает нам знание о реальности, в то время как символическое мешает ее видеть. Мы делаемся реальными людьми, когда сострадаем другому. Об этом прекрасно знал Достоевский. Выходит, что мы открываем реальное, когда откликаемся на страдание другого. В этом смысле любовь можно назвать творчеством реальности.