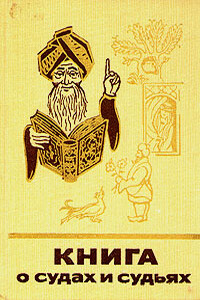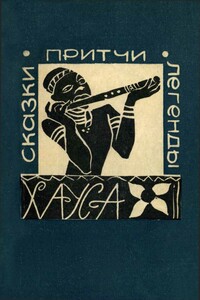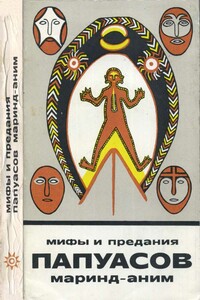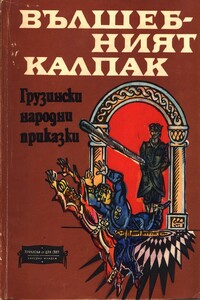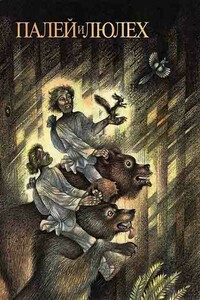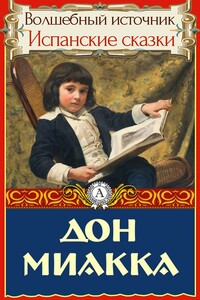Сказки и предания алтайских тувинцев | страница 19
В этот сборник вошло 38 сказок тувинцев, живущих в Тувинской АССР, которые были уже опубликованы раньше на тувинском или русском языке, и вместе с «Хвалой Алтаю», с которой многие рассказчики начинают свое исполнение, еще 33 сказки и предания алтайских тувинцев, собранные мною (восемь из них совпадают с изданием 1977 г.). Различным аспектам сказочной традиции был посвящен за это время ряд статей, а в связи с переводом всего фольклорного материала на немецкий язык были разработаны принципы полного глоссария к ним, так как имеющихся тувинско-русских словарей оказалось недостаточно для работы с фольклорными текстами этого диалекта.
Предлагаемый сборник включает в себя все сказки алтайских тувинцев, уже изданные на немецком языке, а также и еще не публиковавшиеся сказки. Таким образом, это самое полное на сегодняшний день издание сказочного фонда данной тувинской группы, вобравшее в себя большую часть моей коллекции. Не включены в него лишь часть вариантов и некоторые тексты из материала 1985 г.
Несколько слов о том, как и в каких условиях велись до сих пор полевые работы и как был собран этот фонд сказок.
Самые первые тексты моей коллекции тувинского фольклора — три варианта сказки о тарабагане и легенда о Манджын Богде (№ 67), как это ни странно, были записаны не на Алтае, а еще в 1965 г. в нашем доме в Маррклеберге, предместье Лейпцига, на магнитофонную пленку, сразу после того, как выяснилось, что Чина- гийн Галсан — тувинец по рождению. Полевые исследования начались через год, в середине июля 1966 г. После перелета из Улан-Батора через Кобдо в Улэгэй мы продолжили нашу поездку оттуда на ГАЗ-69. Нас было трое: кроме меня прикрепленный в помощь мне молодой романист из Монгольского государственного университета Ц. Сухбаатар и Чинагийн Галсан, тот самый студент-германист, ставший за это время другом нашей семьи. Он ехал на каникулы домой, в Цэнгэл, и сопровождал меня в это первое лето, а также в трех моих следующих поездках. Мы поехали не прямо в сомон Цэнгэл, а сначала через Цагаан-нуур к оз. Адаг-нуур, где в это время стояли юрты родителей Галсана и семьи его старшей сестры.
Мы пробыли там три дня, и я вела в это время этнографические записи и имела полную возможность познакомиться с особенностями жизни в юрте, что было нетрудно. Существенным для моей работы оказалось то, что мы встретили там тувинского учителя, назвавшего нам ряд лиц, которые могли пригодиться нам как сказители и информанты. 27 июля 1966 г. мы добрались до Цэнгэла и сначала остановились на три дня в доме для приезжающих, пока родители Галсана не прибыли со своей юртой в Цэнгэл, где их средний сын жил со своей семьей примерно в четырех километрах от центра, на другом берегу р. Ховд. По моей просьбе мы перебрались из дома для приезжающих в этот аил, который красиво раскинулся в 150–200 м от реки, на плоской равнине с разбросанными по ней редкими отдельными тополями, старыми лиственницами и ивняком. Он и стал нашим приютом на ближайшие два месяца. 28 июля мы начали работу. Приданный в помощь мне Ц. Сухбаатар, не знавший тувинского языка, занимался прежде всего организационной работой: его обязанностью было обеспечивать нам электрический ток, от которого мы еще зависели в 1966 г., когда мне приходилось работать с неудобным и непрактичным в этих условиях магнитофоном марки «Смарагд», так как другого у меня не было. Ц. Сухбаатар доставал верховую лошадь для приезда к нам в центр того или иного сказителя, он хлопотал в таких случаях об освобождении сказителя от работы, организовывал покупку нескольких овец из отары кооператива, чтобы мы могли вносить свою лепту в каждодневные трапезы. Галсан взял на себя необходимые записи текстов (преимущественно песен, пословиц и загадок).