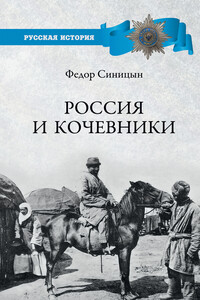За русский народ! Национальный вопрос в Великой Отечественной войне | страница 57
5 января 1943 г. в центральной прессе была продолжена публикация переписки Патриаршего Местоблюстителя и Сталина. В своей телеграмме Патриарший Местоблюститель сообщил Сталину, что РПЦ инициировала сбор пожертвований на постройку танковой колонны им. Дмитрия Донского (с таким призывом к пастве Церковь обратилась 30 декабря 1942 г.), и попросил разрешения открыть в Госбанке специальный счет для перечисления этих пожертвований. До тех пор банковского счета у РПЦ не было, так как она, как и все религиозные организации, по Декрету об отделении Церкви от государства 1918 г. и закону от 8 апреля 1929 г. была лишена права иметь атрибуты юридического лица. Получив лично от Сталина разрешение открыть банковский счет, Церковь де — факто стала юридическим лицом. За короткое время на танковую колонну им. Дмитрия Донского верующие собрали более 8 млн рублей.
Первое время видимые через призму официальной пропаганды отношения между государством и Церковью базировались только на «материальной» основе. В центральной прессе публиковались со
)
Танковая колонна «Дмитрий Донской»
общения иерархов Сталину о том, как Церковь помогает фронту, и выражения готовности помогать и далее. Ответы Сталина иерархам были написаны как «под копирку»: «Прошу передать православному русскому духовенству и верующим мой привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах Красной Армии», и т. п.
Советское руководство не чинило существенных препятствий религиозному подъему в народе. В мае 1943 г. вновь были разрешены ночные пасхальные богослужения. Послабления были даны и на освобожденной территории, где возрождение религии, происшедшее во время оккупации, ставило большую проблему перед советской властью. Ответом на нее стало постановление СНК СССР «О порядке открытия церквей на территории, освобожденной от немецкой оккупации» от 1 декабря 1942 г., которое предписывало воздерживаться от огульного закрытия восстановленных при гитлеровцах церквей. Это положение выполнялось — например, в Курске почти все открытые при оккупации церкви продолжали работать и после освобождения169.
Тем не менее были установлены жесткие пределы послаблений в сторону Церкви. В частности, НКГБ пресекал попытки Церкви входить в непосредственные сношения с командованием госпиталей и ранеными под видом шефства. Власти на местах ощущали беспокойство в связи с религиозным подъемом в народе — например, в июне 1943 г. Пензенский обком сообщил в ЦК ВКП(б) о своей озабоченности фактами «настроений за открытие церквей» и проведением религиозных шествий170.