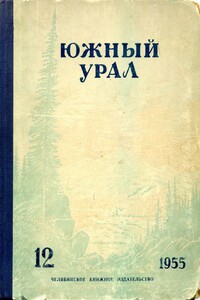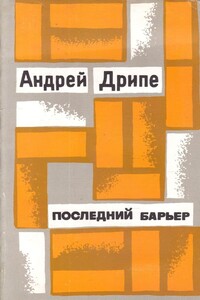Камень-обманка | страница 102
Он снова стал переписывать приказ. В нем были проклятия в адрес революции, мутные сентенции — «Война питается войной», объявление Монголии «естественным исходным пунктом для начавшегося выступления против Красной Армии и советской Сибири». Унгерн грозил «карать со всей строгостью законов военного времени» своих солдат, если они позволят себе «преступный нейтралитет, каковой является государственной изменой», и будут «позорно и безумно воевать лишь за освобождение собственных станиц, сел и деревень, не заботясь об освобождении больших районов и областей».
В бешеный лай и хрипение превратились слова приказа, когда речь зашла о «преступных разрушителях и осквернителях России», о «совершенном упадке нравов в России и полном душевном и телесном разврате». Унгерн требовал карать красных одной лишь мерой — «смертной казнью разных степеней». «Комиссаров, коммунистов и евреев, — подчеркнул барон строки приказа, — уничтожать вместе с семьями. Все имущество их конфисковать».
Россохатскому стало до такой степени противно от чтения косо лежащих строк, полных злобы и яда, что захотелось выть в голос, бежать, зарыться в землю и ни о чем и ни о ком не думать. Честный бой — это честный бой, но уничтожение женщин, детей и невооруженных стариков, пытки и грабежи, которые узаконивал этот бесчеловечный приказ, — не война.
И, может быть, впервые за все время службы в Азиатской дивизии Андрей с такой отчаянной остротой почувствовал свою обреченность и — вслед за ней — ненависть ко всему и ко всем, что его окружало. И к этому безумному барону, и к Сипайло, и к Резухину, и к холоду чужой земли и чужих недобрых глаз.
Бежать!.. Куда? К кому? Как жить? И лез в голову единственный выход: напороться на пулю или шашку красных и покончить разом с этой свинской жизнью. По ночам он молился и просил бога: «Вразуми меня, господи!».
Но господь не хотел вразумлять его, и Россохатский совсем почернел от бессонных ночей, страха и негодования. Он все чаще и чаще пил монгольскую водку из кислого молока, противную и теплую, точно помои.
В редкие часы относительной свободы уходил в город и бесцельно бродил по его улицам, еще хранящим следы боев и пожаров. Однажды он вдруг ощутил, что его неодолимо тянет к зданию русского консульства, к этому крошечному кусочку земли, где еще, может быть, сохранились хоть какие-нибудь приметы его далекой и безвозвратно утерянной родины.
Консульство располагалось между монгольскими и китайскими кварталами, среди голой степи, обгоревшей и пропыленной. Теперь двухэтажный дом, флигели, казармы конвоя, службы, сараи были пусты и беззвучны, и лишь ветер иногда шелестел в черном прахе отпылавшей травы.