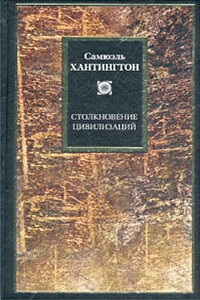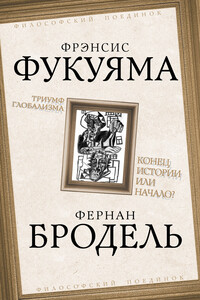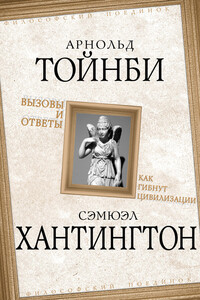Культура имеет значение | страница 73
II. Культура и политическое развитие
Основываясь на веберовском наследии, Фрэнсис Фукуяма (Fukuyama, 1995), Лоуренс Харрисон (Harrison, 1985, 1992, 1997), Самюэль Хантингтон (Huntington, 1996) и Роберт Патнэм (Putnam, 1993) заявляют, что культурные традиции необычайно устойчивы и благодаря этому формируют политическое и экономическое поведение современных обществ. Но, по мнению теоретиков модернизации, начиная с Карла Маркса и заканчивая Даниэлем Беллом (Bell, 1973, 1976), в том числе и автора этих строк (Inglehart, 1977, 1990, 1997), подъем индустриального общества влечет за собой сопутствующие культурные сдвиги, расшатывающие традиционную систему ценностей. В этой статье приводятся доказательства того, что в равной степени верны оба тезиса:
• Развитие влечет за собой синдром предсказуемого отхода от абсолютных социальных норм в пользу все более рациональных, гибких, пользующихся доверием ценностей.
• Однако культуры довольно самостоятельны. Протестантское, православное, исламское или конфуцианское прошлое того или иного общества способствует формированию культурных зон, которые отличаются самобытной системой ценностей и способны противостоять натиску экономического развития.
Существование четко выраженных культурных зон имеет целый ряд социальных и политических последствий. Они оказывают влияние на важнейшие стороны жизни общества, от уровня рождаемости до экономического поведения, затрагивая, — как доказывается в настоящей статье, — и демократические институты. Одна из граней этой межкультурной вариативности особенно важна для демократии. Как мы увидим ниже, общества существенно разнятся друг от друга в зависимости от того, что они выдвигают на первый план — «ценности выживания» или «ценности самовыражения». Социум, опирающийся на ценности последнего типа, имеет гораздо больше шансов стать демократическим.
По-видимому, экономический прогресс влечет за собой постепенный переход от «ценностей выживания» к «ценностям самовыражения», и это позволяет понять, почему богатые общества в большей мере тяготеют к демократии. Как мы убедимся ниже, корреляция между ценностными доминантами («выживание» или «самовыражение») и демократией весьма прочна. Можно ли объяснить данный факт тем, что «ценности самовыражения» (включающие межличностное доверие, терпимость, участие в принятии решений) благоприятствуют демократии? Или же демократические институты сами стимулируют появление таких ценностей? Причинно-следственную связь установить нелегко, но имеющиеся у нас данные говорят о том, что скорее культура содействует становлению демократии, а не наоборот.