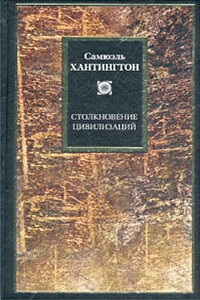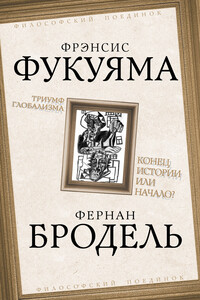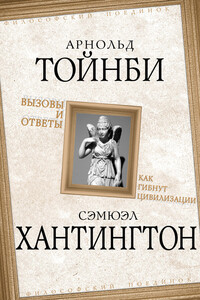Культура имеет значение | страница 71
Этой особенности нашей культуры не стоило бы придавать большого значения, если бы не ее деструктивные последствия. Подобная «тодология»>*, то есть способность рассуждать на любую тему, не имея о ней ни малейшего представления, с безудержным энтузиазмом практикуемая нашими интеллектуалами, обходится недешево. Все произнесенное и повторяемое ими немедленно становится элементом латиноамериканского мировидения. Последствия данной характеристики нашей культуры весьма серьезны, поскольку по своим взглядам интеллигенция Латинской Америки остается антизападной, антиамериканской, антирыночной. Более того, убеждения такого типа популярны на континенте даже несмотря на то, что противоречат историческому опыту двадцати самых развитых и процветающих стран мира. Из-за интеллигентских проповедей демократия становится все слабее, а вера в светлое будущее тает. В ситуации, когда интеллектуалы пропагандируют пугающие видения «революционного завтра», утечка капиталов или хроническая нестабильность наших политических и экономических институтов отнюдь не кажется удивительной.
Скажу больше. Речи интеллектуалов, появляющиеся в газетах, книгах, журналах, на радио и телевидении, воспроизводятся в большинстве латиноамериканских университетов. Многие государственные и частные университеты континента по-прежнему остаются прибежищем архаичных марксистских представлений об экономике и обществе. В них говорят о нежелательности внешних инвестиций, опасностях глобализации, внутренней ущербности той модели, которая предоставляет распределение ресурсов силам рынка. Такая направленность мысли объясняет теснейшую взаимосвязь между «науками», осваиваемыми молодыми людьми на университетской скамье, и многочисленными подрывными группами — «Sendero Luminoso» в Перу, «Tupamaros» в Уругвае, «Movimiento de Izquierda Revolucionaria» в Венесуэле, М-19 в Колумбии или сапатистами в Мексике. Оружие, которое молодежь берет с собой в сельву, горы или на городские улицы, заряжают в лекционных аудиториях наших университетов.
Латиноамериканский университет так и не смог — за немногочисленными исключениями — стать независимым творческим центром, превратившись вместо этого в источник бесчисленных повторений набивших оскомину и безнадежно устаревших идей. Но что еще более поразительно, так это отсутствие какой бы то ни было связи между тем, чему обучают студентов, и реальными потребностями общества. Дело выглядит так, будто университеты гневно отвергают утвердившуюся модель общественного устройства и при этом нисколько не озабочены подготовкой квалифицированных профессионалов, способных работать на благо подлинного прогресса. Провалы нашей университетской системы делаются еще непростительнее, если принять во внимание тот факт, что большинство университетов в Латинской Америке финансируются из государственного бюджета, то есть за счет всех налогоплательщиков, но при этом 80 или 90 процентов студенчества составляют представители среднего и высшего класса. Сказанное означает, что в системе образования происходит перераспределение ресурсов от малоимущих слоев населения к обеспеченным слоям. И с помощью подобных жертв поддерживаются те самые идеи, из-за которых бедные становятся еще беднее.