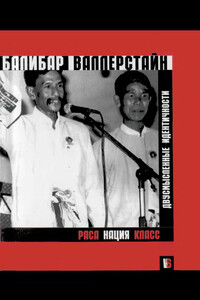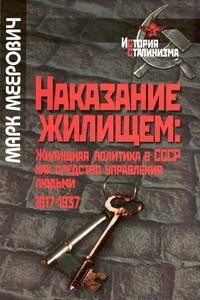Анализ мировых систем и ситуация в современном мире | страница 12
«[Мы] обращаемся к истории и только к истории, если то, что мы ищем, — реальные причины, источники и условия открытого изменения моделей и структур в обществе. Вопреки обывательской мудрости современных социальных теорий, мы не найдем объяснения изменениям в тех исследованиях, которые абстрагируются от истории; будь то исследования малых групп в социальной лаборатории, групповая динамика в целом, эксперименты с использованием методов социальной драмы по социальным взаимодействиям или математический анализ так называемых социальных систем. Не обнаружим мы источника изменений и во вновь появившихся в наше время образцах сравнительного метода с его иерархиями случаев культурных сходств и различий, заимствованных из разных мест и времен»[6].
Обратимся ли мы в таком случае к критическим школам, особенно к марксизму, чтобы они дали нам лучшее описание социальной реальности? В принципе, да; на практике, однако, существует много разных, часто противоречащих друг другу, дошедших до нас версий «марксизма». Но что еще более существенно — во многих странах марксизм является сегодня официальной государственной доктриной. Марксизм более не является исключительно оппозиционным учением, как это было в XIX в.
Социальная судьба официальных доктрин состоит в том, что они испытывают постоянное толкающее их к догматизму и апологетике социальное давление, которому очень трудно, хотя не вовсе невозможно противостоять. Именно поэтому они часто попадают в тот же интеллектуальный тупик построения антиисторических моделей. Именно на это обращена критика Фернана Броделя:
«Марксизм содержит в себе целый ряд моделей социальных явлений... Я бы присоединил и мой голос к его [Сартра] протестам, но не против модели как таковой, а против некоторых способов ее употребления. Гений Маркса, секрет силы его мысли состоит в том, что он первый сконструировал действительные социальные модели, основанные на долговременной исторической перспективе. Эти модели были увековечены в их первоначальной простоте тем, что к ним стали относиться как к неизменным законам, априорным объяснениям, автоматически приложимым ко всем обстоятельствам и всем обществам... Эта жесткая интерпретация ограничила творческую силу самой мощной системы социального анализа, созданной в прошлом веке. Восстановить ее возможно только в долговременном анализе».[7]
Ничто не иллюстрирует искажающего воздействия внеисторических моделей социального изменения лучше, чем дилеммы, порождаемые понятием стадий развития. Если мы должны иметь дело с социальными трансформациями долговременного характера («длительная временная протяженность» Броделя) и если мы должны дать объяснение как преемственности, так и преобразованию, мы должны логически разделить длительный период на отрезки с целью проследить структурные изменения между временем А и временем Б. Но на самом деле в реальности эти отрезки времени не дискретны, а непрерывны: