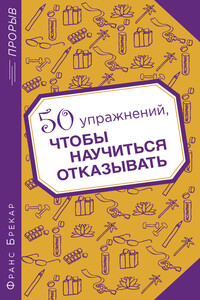Психолингвистика | страница 44
В силу сложившейся традиции в СО сказано, что не нужно это потому, что все необходимое для правильного понимания смысла слова может быть извлечено из примеров. А я к этому добавлю: не нужно в СО, потому что он отражает языковое сознание наивного носителя, последний же не склонен к операциям с родами, видовыми отличиями и признаками в том смысле, как это понимается в формальной логике. (Читатель будет иметь возможность в этом убедиться, см. главу "Интерпретация смыслов и модели мира".)
Как мы уже говорили выше, для наивного языкового сознания стакан — это то, из чего пьют, а не стеклянный сосуд в форме цилиндра емкостью около 250 граммов. В научном филологическом словаре вне зависимости от его специфики — будь то одноязычный толковый словарь или двуязычный словарь — вопрос об отражении наивного языкового сознания и естественности именно для него предлагаемого толкования второстепенен. Важно, чтобы сложные значения толковались через более простые, чтобы толкования были полными и достаточными, чтобы в них не было "порочных кругов" (т. е. не следует давать определений неизвестного через непонятное).
Толкование в словаре типа СО имеет совершенно иную цель: будучи плодом усилий лингвиста, оно тем не менее адресовано не ученому, а рядовому носителю языка, для которого этот язык является родным. С моей точки зрения, автору словаря типа СО приходится решать более сложную задачу, чем автору научного словаря (хотя принято считать, что все обстоит наоборот).
Не так просто уловить такое ядро смысла слова, которое бы отражало именно интуицию неискушенного носителя и вместе с тем было лаконичным и лингвистически правильным. Эта цель, с нашей точки зрения, вполне адекватно решается в СО. Так, в СО вертел толкуется как металлический прут определенного назначения, противень — как лист, также с указанием функции. То обстоятельство, что здесь нет указания ни на род, ни на видовое отличие, не мешает обоим толкованиям быть семантически адекватными и естественными для восприятия.
Впрочем, в поисках способов описания смысла, ориентированных на описание того, как все обстоит "на самом деле", можно пойти много дальше и много глубже, притом имея в виду содержание сознания "наивного" носителя языка, т. е. не забывая заветов Щербы. Ниже мы покажем, какие пути при этом выбирают разные исследователи.
В 1970–1980 гг. австралийская исследовательница Анна Вежбицкая (A. Wierzbicka) разработала так называемый "язык примитивов". Он состоит из небольшого числа базовых слов, необходимых для описания смыслов любых других слов, более сложных по сравнению со словами — "примитивами". Слова "языка примитивов" — это единицы, смысл которых можно считать самоочевидным, такие, как ВЕЩЬ, Я, ТЫ, ДУМАТЬ, ДЕЛАТЬ, ХОТЕТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ. Действительно, подобные слова не нуждаются в дальнейшем определении, и к тому же (это показали специальные исследования) слова с таким смыслом есть практически во всех известных языках, в том числе и языках народов совсем иных культур, нежели евроамериканская, например в языках австралийских аборигенов.