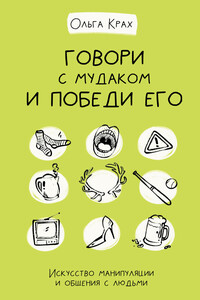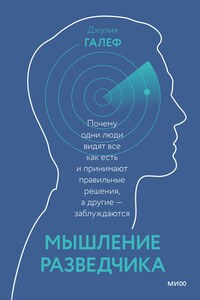Психолингвистика | страница 11
6. ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ЯБЛОКИ
Когда начинаешь сомневаться в очевидностях своей любимой науки, раньше или позже натыкаешься на догмат–вопросы.
Много лет назад я ставила эксперименты, где испытуемыми были дети, глухие от рождения или рано оглохшие. Это были обычные смышленые дети, хотя русский язык, которому их обучали в специальной школе, они знали довольно плохо: с трудом читали и едва умели писать. Друг с другом они свободно общались на разговорном жестовом языке — на нем говорят в любом коллективе глухих. В то время педагоги в большинстве своем считали, что если глухих детей не обучить в полной мере родному языку, т. е. языку словесному, — это принципиально ограничит возможности развития их мышления, поскольку мышление без языка невозможно. Но родным языком этих детей был именно язык жестовый! Эта очевидность в то время последовательно игнорировалась.
Я не скоро поняла, что за подобной позицией скрывался догмат–вопрос: возможно ли мышление без словесного языка? Однако словесный язык не является единственно возможным: язык жестов — это тоже язык.
Известный математик сэр Френсис Гальтон некогда написал, что ему трудно думать словами. Он мыслил символами разной природы — пространственными, слуховыми. Видимо, подобные символы, как и способы выражения отношений между ними, вовсе не обязаны носить словесный характер. Другое дело, что мышление действительно невозможно вне опоры на какую–либо символическую систему, где символы замещают объекты внешнего мира. Это еще в 30–е годы XX в. убедительно показал замечательный советский педагог–дефектолог И. А. Соколянский, занимавшийся обучением и воспитанием слепоглухих детей. Природа оставила им всего два канала, через которые можно было ввести в мозг ребенка информацию о нем самом и окружающем его мире: осязание и обоняние, причем осязание — это главный канал.
Мне выпало счастье познакомиться с И. А. Соколянским в конце 1950–х годов. Он показал мне небольшой музей: в витринах разместились пластилиновые слепки простых вещей. Пластилиновые яблоки, коробок спичек, чашка, головка ромашки, дом, подушка, колодец… Это были как бы материализованные смыслы.
Первый шаг к овладению ими Иван Афанасьевич описал так: "Я беру руку ребенка и кладу ее на яблоко". На следующем шаге ребенок должен был слепить то, что он осязал, из пластилина. Постепенно, сравнивая настоящие яблоки на ощупь, чувствуя запах и пробуя на вкус, ребенок поймет, что яблоки — побольше и поменьше, сладкие и не очень — между собой похожи. И каждый раз появится еще одно, два, три пластилиновых яблока. Так через осязание у слепоглухого ребенка создаются обобщенные представления о "вообще яблоке". Аналогичный путь придется проделать, чтобы у слепоглухого ребенка возник образ цветка или чашки.