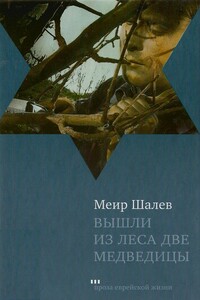Фонтанелла | страница 53
Мы с Габриэлем замолкали, прислушиваясь к голосу Шимшона Шустера, дрожавшего за запертой дверью и закрытыми ставнями:
— Сто ты за музик, Йофе, сто у тебя есть только досери? Кто сказет по тебе кадис?
— Слысали этого Симеона, как он говорит? — издевался Апупа.
— Слысали, — отвечали мы, и Апупа, очень довольный, улыбался и говорил:
— Стобы воровать лосадей в темноте, он храбрый, но стобы выйти на солнесный свет — так тут он боиса.
Когда мы доходили до ворот школы, Апупа спускал Габриэля с плеча, брал его тонкую руку и вкладывал в мою со строгим лицом:
— Смотри за ним, Михаэль, да?! За руку до самого его стула в классе! — И тогда его лицо освещалось. — А я вернусь к вашей бабушке, которая так скучает по мне.
Я хорошо помню тот день, но не только потому, что это был первый день учебы. Держась за руки, мы шли, Габриэль и я, в первый класс, и, когда мы вошли, нас ожидала учительница, а с нею — новый директор школы, который с улыбкой поздоровался с нами и торжественно пожал нам ладони.
У него были приятная рука и приятный голос, и его кожа приятно пахла вином и мылом. Остро заглаженные брюки хаки, светлая рубашка вздувается над худобой тела, умное лицо над ней и загорелая лысина, а сквозь радужную оболочку глаз смотрела на меня улыбка его жены.
— Здравствуйте, дети, — сказал он, — меня зовут Элиезер. Я ваш новый директор.
Глава первая
ПОХОД
Дед мой, Давид Йофе, он же Апупа, по прошествии лет стал, как я уже говорил, маленьким, тяжелым, трясущимся от холода старичком, и от былого величия у него остались лишь огромные ладони да куриные мозги. Все заботы о нем взял на себя Габриэль, его единственный внук и мой двоюродный брат, который живет теперь в дедовском доме, вместе со своим «Священным отрядом» и скрипачом Гиршем Ландау. Но «в те времена» всё было иначе: «Священного отряда» не было еще и в помине, Гирш Ландау мечтал об Апупиной смерти, сам Габриэль, сегодня высокий и широкоплечий, был маленьким, испуганным, плаксивым недоноском и рос в большом инкубаторе для цыплят, а Апупа, который сегодня лежит в том же инкубаторе, был шумным и задиристым великаном с грубым лицом старого сатира, каштановой гривой и белой бородой.
— Только сердце у него не изменилось, — сказала Рахель, и ее голос сразу стал мягким, сказочным и напевным. — Как было полно любви, так и осталось полно любви.
Любви к дочерям, этому семени своему, и любви к Габриэлю, Цыпленку, этому своему потомку мужского пола, и самой большой любви — к Амуме, своей жене, той огромной любви, которая со временем лишь углублялась, несмотря на всё быстрее уплывавшие годы, и всё чаще наплывавшие невзгоды, и на все их свары и ссоры, и осталась такой даже сейчас, после ее смерти.