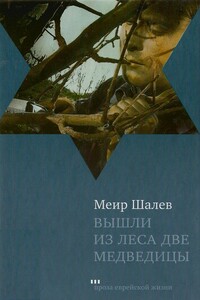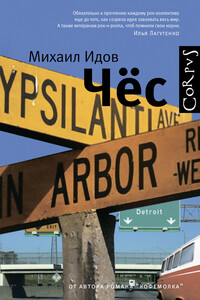Фонтанелла | страница 24
«У вас», — говорит он, не «у нас», потому что мой отец, хотя его фамилия тоже Йофе, родом из «внешних родственников» — тех, которые присоединились ко «Двору Йофе» посредством женитьбы и никогда не получат там полного гражданства: Парень тети Рахели, Жених тети Пнины, и он, Мордехай Йофе, который пролил больше крови и спермы, чем все Йофы, взятые вместе, но при этом ничего не забыл.
— Ты бы мог стать одним из нас, Мордехай, — слышал я, как говорила ему мама, — если бы только прекратил эти свои насмешки.
— А мне это и не нужно, Хана, — услышал я его ответ [услышал я его капающий яд], — мне достаточно быть одним из тебя.
Терпение, Михаэль, снова говорю я себе сейчас, черпая смелость у предметов, которые собрал перед собой до того, как начал писать, — у карандаша и у бумаги, у пачки «Драмы»,[14] которую привезла мне Айелет из того самого Амстердама («если ты куришь одну сигарету в два дня, то хоть скрути ее сам»), у дисков для копий, которые купил мне Ури, у старой бритвы, которую дал мне муж Ани, а наточил Жених, той бритвы, у которой лезвие толщиной в одну металлическую молекулу.
— Осталось не так уж много времени, — сигнализирует мне моя фонтанелла той слабой неуверенной морзянкой, пророчества которой относятся ко мне, а не к другим. У нее есть разные сигналы — свой для зародышей, которым предстоит родиться (этакие пульсации, медленные для мальчика, быстрые для девочки, можете представить себе тот дикий барабанный бой, который еще до беременности Алоны приготовил меня к появлению на свет Ури и Айелет), свой для той беременности, что была у нее сразу после них и кончилась выкидышем (далекий глухой саксофон, поющая дюна, как будто мертвец напевает в своей могиле), свой для ожидаемой смерти (быстрая острая дрожь, привстающие на макушке волосы при виде ничего не подозревающей жертвы) и свой для смерти неожиданной (глухое, слегка болезненное жужжание). Есть у нее и сигналы, касающиеся моего персонального будущего, — вышеупомянутая слабая морзянка.
Теперь писать, Михаэль, терпеливо и честно писать, и улыбаться, и если нужно — даже «размазать сопли по носу» (так Йофы описывают нежелательное раскрытие семейных тайн), но писать и не сдаваться. Смешить себя, помнящего, и тебя, вспоминающего. Знать, что эта семья — моя семья, это отражение — мое отражение, это слабое, сожженное, продырявленное тело, Михаэль, — твое тело, мое.
На вопрос: «Кого ты больше любишь, папу или маму?» — который у других детей вызывает смущение, я всегда отвечал без запинки, громким голосом и указующим, уверенным перстом: «Его!» Так я чувствовал при его жизни, так и сейчас, когда он уже ушел, а она еще жива.