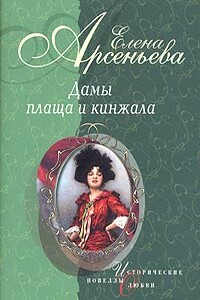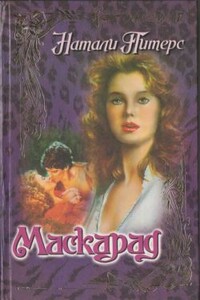Вересковая принцесса | страница 22
Послание заканчивалась словами: «На письмо из Неаполя ответа не будет, и оно, разумеется, не должно попасть в руки моей матери». Очевидно, имелось ввиду то письмо, которое сейчас лежало на столе: на нём стоял штемпель из Неаполя. Теперь оно меня заинтересовало вдвойне.
Я недовольно сложила тонкий листок, который держала в руке, — там не было ничего ни о новом месте проживания отца, ни о его отношениях с теми, чья фамилия была Клаудиус — я вскочила и бросила письмо обратно в шкатулку. Ах, какое мне дело до каких-то чужаков! Я тут сижу и размышляю о людях и обстоятельствах, которые меня совершенно, ни капельки не касаются, а на улице уже темно, и Хайнц всё ещё шумит и возится на заднем дворе… Обыкновенно, если он принимался вечером за какое-нибудь дело, я шлёпала его по пальцам, вцеплялась ему в руку и волокла его сюда, в проход, к его неизменному месту — большому неполированному стулу. Затем я протягивала ему зажжённую лучину, и тотчас же вокруг его счастливого ухмыляющегося лица начинали клубиться облака дыма. Илзе приносила своё шитьё, а я с неубывающим энтузиазмом зачитывала им вслух рассказы, которые знала уже почти наизусть. Если на улице было холодно и дождливо, то в плите разжигался огонь, и Илзе разливала горячий чай. Было необыкновенно уютно сидеть в защищённом проходе, под крышей, по которой неутомимо барабанит непрекращающийся дождь; а от плиты исходит приятное тепло, и в просторном гумне по соседству царит уютная тишина. Иной раз легонько звякнет цепь на шее у Мийке; иногда высоко на насесте вдруг завозится во сне какая-нибудь курица — всё, что я любила, было заключено в этих четырёх стенах!
В такие часы в моей душе царило умиротворение; у меня не было никаких желаний, никаких потребностей! Моё юное сердце было исполнено нежности к Илзе и Хайнцу… И вот теперь сюда, в этот уютный мирок, вторглись чужие лица, и я покраснела при мысли о том, во что я сама превратилась под их внезапным влиянием. Не было никаких сомнений — вместо того чтобы держаться моего старого друга, которого знатный молодой господин мерил столь презрительными взглядами, я начала трусливо его стыдиться; я вдруг сделалась ужасно резкой, я наступила ему на ногу, ему, который всегда был безгранично терпелив со мной, а потом я глупо ругала его за то, что он напрягал свой бесхитростный ум, чтобы ответить именно так, как я хотела… Почему же я это сделала? Потому что мне пришла в голову блестящая идея похвастаться моим знаменитым отцом, отцом, для которого я не существовала, в то время как Хайнц лелеял меня и носил меня на руках.