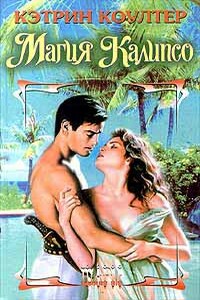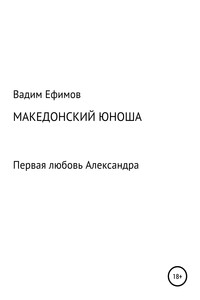Вересковая принцесса | страница 115
Когда я стала подниматься по лестнице, мне навстречу попались Эрдман и горничная, которые сносили вниз большую корзину с посудой. Дверь столовой была по-прежнему нараспашку. Если господин Клаудиус до сих пор находится в комнате Шарлотты, то я, наверное, смогу ему показаться через открытую дверь, чтобы другие меня не заметили, — я не хотела свидетелей при этом разговоре.
Я как раз собиралась войти в комнату, как вдруг зазвучали два прекрасных голоса — и я застыла как пригвождённая, хотя у меня земля горела под ногами и с каждой потерянной минутой моё сердце стучало всё сильнее и сильнее.
пели Шарлотта и Хелльдорф. Две высокие, стройные фигуры стояли рядом у рояля, на котором им аккомпанировал Дагоберт.
О мои поля под дождём! Когда весенний ливень обрушивается на Диркхоф, пытаясь вырвать ставни и выбить стёкла, когда буря срывает с дуба шапку из сухих листьев и рвёт её на части, когда Илзе тщательно запирает двери, а куры убегают с широкого продуваемого двора и прячутся на своих насестах, я устремляюсь к изгороди и взываю оттуда к пролетающим тучам… Это совсем не то, что шторм зимой! Тысячи и тысячи голосов, которые, пробудившись ото сна, радуются и ликуют! Бурные воды, вырвавшиеся из-подо льда, шумящий вдали лес, в котором пульсирует стремительно пробуждающаяся жизнь, заставляющая звенеть каждый колокольчик, каждую травинку… И я отдаюсь на волю бури, она подхватывает меня и уносит вдаль — и тащит рывок за рывком по пустоши, словно сухой дубовый лист, пока я не оказываюсь на вершине холма и не обхватываю, дрожа и ликуя, мою любимую сосну… Нас обеих трясёт и шатает, старую сосну и меня, но она весело шелестит своей хвоей, и я начинаю смеяться, глядя вверх на толстые хмурые тучи, беспомощно уносимые вдаль… Мокрые волосы хлещут по моему лицу, ветер цепляет и рвёт моё платье — но мне не нужен укрывающий плащ: мои маленькие руки и ноги налились упругой силой… Я храбро прокладываю себе путь домой и журю Шпитца, который уютно устроился в тёплом углу за печкой.
звучит в салоне, и голоса поднимаются всё выше и выше, словно на крыльях бури. Я как будто в тумане; но нет, я не должна поддаваться колдовству мелодии — прочь, прочь тоска по дому, её горькие и сладкие мечты!.. Я вижу, как мой отец взволнованно бегает туда-сюда по библиотеке, и это сразу же заставляет меня переступить порог салона. Там в дальнем углу сидит господин Клаудиус, совершенно один. Его рука опирается о подлокотник кресла, лоб и глаза прикрыты ладонью. Густая светлая прядь волос падает на белые пальцы, и я удручённо отшатываюсь — даже матовый серебряный блеск его кудрей действует на меня как холодный душ; я вдруг понимаю, что не могу вспомнить ни слова из моей героической, тщательно составленной речи; мне уже кажется, что он мне откажет, очень вежливо и мягким голосом, но твёрдо и определённо — так, что любое последующее слово будет выглядеть как назойливость… И хотя он сидит сейчас как будто глубоко погружённый в потрясающее пение, как будто отрешённый от всего сущего — всё равно в его голове крутятся одни лишь цифры, и я знаю, что как только я назову ему три тысячи, он снова тихо улыбнётся и скажет: «Вы, очевидно, не имеете представления, какая это большая сумма!»