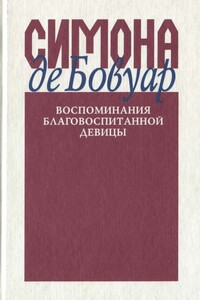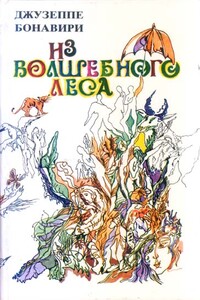Мандарины | страница 37
Что за неистовое упрямство! Мне стыдно. В течение этих четырех лет, несмотря ни на что, я была убеждена, что после войны мы вновь обретем довоенное время. Вот и сегодня я опять говорила Поль: «Теперь все будет как раньше». А сейчас пытаюсь убедить себя: раньше все было в точности как теперь. Но нет, я лгу: это не так, и ничего уже никогда не будет как раньше. Раньше во время самых тревожных кризисов в глубине души я была уверена, что мы из них выберемся; Робер неизбежно должен был выбраться; его судьба гарантировала мне судьбу мира, и наоборот. Но как полагаться на будущее с тем прошлым, что осталось у нас за спиной? Диего умер, было слишком много смертей, скандал вернулся на землю, и слово «счастье» уже не имеет смысла: вокруг меня снова хаос. Быть может, мир с ним справится, но когда? Два или три века — это слишком долго, ведь наши-то дни сочтены: если жизнь Робера закончится поражением, сомнением и отчаянием, этого ничто и никогда не исправит.
В его кабинете легкий шорох; он читает, размышляет, строит планы. Добьется ли он успеха? А если нет, что тогда? Незачем предполагать худшее, нас никто не проглотил; мы просто прозябаем на обочине уже не нашей истории, и Робер обречен на роль пассивного наблюдателя: что он сделает со своею жизнью? Я знаю, революция вошла в его душу, она стала его абсолютом: юность наложила на него неизгладимый отпечаток. В течение всех этих лет, когда он рос среди домов и жизней цвета сажи, социализм был его единственной надеждой; он поверил в него не из благородства и не по логике, а по необходимости. Стать человеком означало для него стать активистом, как отец. Понадобилось много всего, чтобы отторгнуть его от политики: бурное разочарование 1914 года, разрыв с Кашеном через два года после Тура>{17}, невозможность разжечь в социалистической партии былое революционное пламя. При первом же случае он снова включился в борьбу и теперь, как никогда, увлечен ею. Успокаивая себя, я говорю, что он далеко не исчерпал своих возможностей. После нашей свадьбы в течение тех лет, когда он отошел от активной деятельности, он много писал и был счастлив. Да, впрочем, был ли? Меня устраивало так думать, и вплоть до этой ночи я никогда не решалась доискиваться, что думает он сам, оставаясь с собой наедине: я уже не чувствую себя уверенной в нашем прошлом. Если он так быстро захотел ребенка, то наверняка потому, что меня было мало для оправдания его существования; к тому же, возможно, он искал реванша над будущим, на которое не мог уже влиять. Да, это стремление к отцовству кажется мне весьма красноречивым. Не менее красноречива и горечь нашего паломничества в Брюэ. Мы бродили по улицам его детства, он показывал мне школу, где преподавал его отец, и мрачное строение, где в девять лет он слушал Жореса;