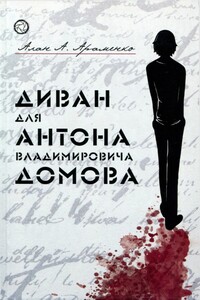Мойры | страница 39
У меня новая подопечная — Эмилька, шести лет, светленькая, кудрявая, как ангелочек, худая, как и все они, такая хрупкая и золотистая, словно рассыпчатое печенье. Ее мать два дня стояла молча, не шевелясь, у большого окна в холле и смотрела на машины и трамваи. Поначалу они все так себя ведут. И только потом набираются мужества. Сейчас им кажется, что они уже в аду, что дошли до точки, а ведь это только начало, каждый следующий день ведет вниз по лестнице без перил, по холодным и мокрым каменным ступеням. Где-то там, в палате, ждет Эмилька, сжимая в кулачках свои золотые волосы, после химиотерапии они посыпались с ее головы.
Голубушка, сегодня у вас самые печальные глаза на свете; поглядим, какими они станут через месяц. Лучше бы вы поскорее вернулись к мужу, натянули сексуальное бельишко и постарались забацать еще одного ребенка, этот оказался порченым, совершенно ни на что не годным, да и проку здесь от вас никакого, помочь вы ничем не можете, мы и без вас управимся. Или не управимся.
Заделайте лучше нового и здорового ребенка, этот уже почти на выброс. Золотые кудри в мусорное ведро — клац! — звякает жестяная крышка. Эмильку в ведро — клац! — звякает жестяная крышка, Каролека в ведро, да оставь ты эту чертову машинку, на небо ее с собой не унесешь, другой ребенок с ней еще поиграет — клац! — звякает жестяная крышка, клац, клац, осточертело все, нечем мне, голубушка, вас порадовать, вы и сами это знаете, а что до ваших грустных глаз, купите-ка себе лучше темные очки…
Доконает меня эта работа.
15 мая
Моя жизнь течет от одной смерти к другой, и каждая из них — поворот или перепутье, помеченное крестом. Первой была смерть Павлика, потом, несколько лет спустя, хоронили деда. Я была ему многим обязана. Помню, как мы гуляли с ним по воскресеньям, шатались по старому Кракову. Дед был парнем что надо, женщины его обожали, видный, ухоженный, от серой обыденности он изловчился отхватить кусок повкуснее.
Никто так не умел рассказывать сказки. Когда все книжки были прочитаны и все байки, знакомые и не очень, рассказаны, а я требовала еще, он с терпеливостью истинного ангела, без малейшего намека на скуку в голосе сочинял какую-нибудь невероятную историю: о мухе, что не давала покоя домику, кусая его за трубу, о садике, у которого расхворалась изгородь…
Перед смертью — я тогда уже училась в институте — он долго болел, совершенно не сознавая, что с ним происходит, исхудавший, одряхлевший, он уходил медленно, без спешки; измученный пролежнями, с унизительным катетером, он ни капли не походил на того молодца, который еще пару лет назад очаровывал женщин элегантностью и стилем. Он перестал узнавать нас, потолок превратился для него в волшебный телевизор, на котором высвечивались сцены из его жизни. Пару недель спустя остались лишь стеклянные глаза, глядевшие куда-то сквозь потолок, крышу, небо, сквозь всю вселенную, прямо в лицо Господу Богу, прямиком в иное время и в иной мир, куда никто из нас, сидевших у его постели, не мог заглянуть и куда ему предстояло очень скоро отправиться.