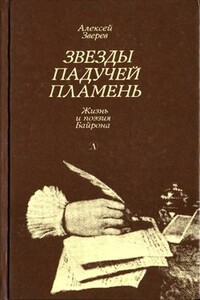Лев Толстой | страница 3
Но ведь это есть во всех биографиях. Что же тут нового?
А новое именно в самой личностности чтения, в спокойной страстности (если возможно такое сочетание), с которой авторы «освобождают» в Толстом человека из-под завала «внешней» жизни, из-под бремени толкований, чтобы увидеть за чужими и его собственными жестокими вопросами к себе, за непрерывной его пыткой наше земное, общее, что могло бы укрепить нас в верном самопонимании. Это одинаково касается изнуряющих толстовских вопросов и к человеку, и к Церкви. Они терпеливо ищут грань, за которой самоосуждение выговаривает себе опасное право судить других. И тут их анализ терпелив и бережен и не теряет здоровья. И они, кажется, понимают иронию К. Н. Леонтьева, который, живя в Оптиной пустыни, говорит после встречи с Толстым, что тот «безнадежен» и что он, Константин Николаевич, охотно написал бы на него «донос» в Петербург, чтобы его сослали в Сибирь и он бы не мучил людей и не искушал их своей пытливостью. А Лев Николаевич просит сделать это поскорее, потому что ищет страдания за правду.
Улыбка улыбкой, но тут все так тонко, что никаких страниц не хватит. И Леонтьев в своем здоровье прав. И Толстой безусловен. Он, может, и правда спрашивал «через край», но ведь человек по-настоящему и начинается и познается, когда «через край». Он узнал в преследовании своей души, что границы страданий и границы внутренней свободы очень близки. Что свобода по-настоящему и растет из страдания, что «материя» жизни тоньше и сложнее, чем ее хочет видеть человек, загораживаясь от бессмертия и Бога логикой и историей.
Самое дорогое в книге, что авторы заключают это не только из анализа дневников и писем, не только из богословских исканий своего героя, но и из его великих книг — из «Казаков» (где он проговаривается, что он всю жизнь какой-то «нелюбимый»), из «Анны Карениной» (с левинским восхищением православной твердостью А. С. Хомякова), из «Войны и мира» (с бессмертным «аустерлицким небом» и безуховским «все это во мне и всё это я»). Словно они читают не книги, а жизнь.
Толстой не зря боролся с «художественностью» и с «лит-т-тературой». Он и не писал этой чужой ему «лит-т-тературы». Жизнь уходила в книги, а книги в жизнь без отчетливой границы, почему до сих пор и нельзя понять, «как это сделано». Он был и Олениным, и Брошкой, Пьером и Наташей Ростовой, умирающим Иваном Ильичом и Холстомером, мужиком и барином, хозяином и работником, последним смертным и богом.