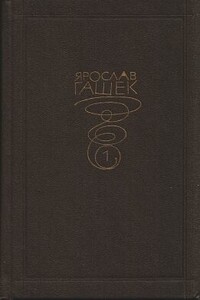Газета Завтра 406 (37 2001) | страница 73
Тут же, в тесной глубине входной башни, над которой вьется стальная лоза зубчатой спирали Бруно, у зарешеченных окон, толпятся родные узниц. Печальные мужчины — отцы и мужья подследственных. Огорченные, с запавшими глазами женщины — матери и сестры заключенных. Ребятишки, растерянные, бестолковые — дети, отлученные от арестованных матерей. У всех одно и то же выражение лица, словно к каждому приложили трафарет, подогнали рты, морщины, глазницы под одинаковую маску печали. Выстраиваются в очередь к окну передач, заполняют какие-то бланки, о чем-то друг друга выспрашивают, рассказывают похожие одна на другую истории: про затянувшийся суд, про бессердечных следователей, про бездеятельных адвокатов, про несправедливость, про несчастную случайность, погубившую их жен и дочерей. Так же, в таких же очередях, с такими же кошелками, стояла моя родня, когда в Бутырках сидели тетя Вера и тетя Катя, и потом в уральские лагеря, в красноярскую ссылку летели из нашего дома письма, полные любви, сострадания, надежды на встречу, и ответом было молчание, и бабушка доставала из фамильного сундука с музыкальным замком свои свадебные бело-голубые скатерти, резала их на платки, продавала на рынке и на вырученные деньги, на проданные серебряные ложки покупала любимым узницам продукты, теплые вещи, отсылала за Урал, спасала их от лагерного мора, от тоски бессрочных поселений. Не чурайся, брат, этой очереди к зарешеченному окну, за которым суровая мужеподобная женщина в военной форме принимает кульки передач. Ты встанешь в нее когда-нибудь. Или прежде уже стоял. Или кто-то, кого ты любишь и помнишь, простаивал ее день за днем, год за годом. Посмотрись ненароком в домашнее зеркало — и к твоему лицу приложили фанерный трафарет, обвели темными кругами глаза, опустили уголки иссохших губ, капнули в зрачки чернильную дрожащую боль.
Нажимаю твердую красную кнопку на железных дверях служебного входа. Слышу глубинные лязги многих замков, словно приближается танк. Дверь отворяется и я погружаюсь в камень, в железо, в стальные прутья, в промасленные засовы и скобы. Тюрьма сглатывает меня каменными губами, сжимает металлическими зубами, всматривается мертвенными зрачками телекамер.
Мой провожатый, мой Овидий, ведущий меня по этажам и ступеням узилища, — молодая крепкая женщина с красивой прической, золотыми серьгами, чья полная грудь, плотные бедра, округлый живот ловко и удобно зачехлены в камуфлированную, военную форму. Из нагрудного кармана торчит портативная рация. У пояса висит резиновая дубинка. На плечах, на рукавах — погоны, нашивки, цветные шевроны Министерства внутренних дел. У этой женщины есть семья, она родила и воспитывает детей, покупает им сказки Пушкина, ее обнимает ночами муж, всей семьей они ходят в парк смотреть на голубые фонтаны, она посещает хорошего парикмахера, любит туалеты и модные туфли. Но попадая сюда, надевая пятнистую форму и военные тяжелые бутсы, пристегивая дубинку, вызывая по рации посты охраны, она превращается в элемент тюрьмы, в ее замки, решетки, обыски, карцеры, в слезы молодых арестованных женщин, в припадки, истерики, передачи с воли, выезды в суд и унылое, покорное следование осужденных преступниц по этапу, в отдаленную трудовую колонию.