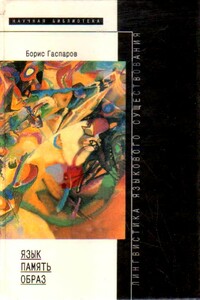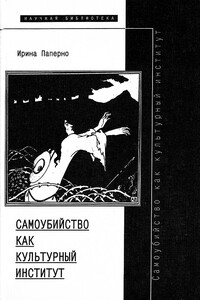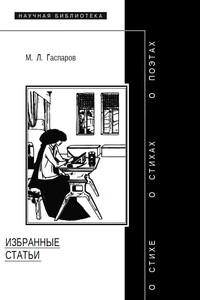Литература как таковая. От Набокова к Пушкину | страница 56
«Чрезвычайно больно бьется проклятая палка», — говорит Поприщин[135].
Как видим, в начале десятой главы готовится окончательный переход от плана Означаемого 1 к плану Означаемого 2: Герман говорит здесь уже не о преступлении (убийство + обман), а о создании художественного произведения (письмо + обман). До сих пор были отдельные моменты, когда планы перемешивались, но теперь они будут перемешиваться постоянно вплоть до полного слияния. Творческий акт здесь сравнивается с преступлением[136]: это поступок того же типа. Именно поэтому, как уже было сказано, самое главное заключается в том, что рассказ об убийстве Феликса становится метафорой самого процесса написания романа. Это абсолютно точное автоизображение (так же как жизнь Лужина абсолютно точно совпадает с шахматной игрой в «Защите Лужина»). И неудивительно, что дальше Герман оправдывается именно по отношению к этому переходу из одного плана в другой.
Двусмысленность всех последующих его высказываний просто поразительна и требует от читателя соответственного двойного чтения. Например, во фразе Германа «оплошно с беллетристической точки зрения, что в течение всей моей повести (поскольку я помню) почти не уделено внимания главному как будто двигателю моему, а именно корысти» (505) очень важно подчеркнуть слово «как будто». Им все сказано: история преступления только повод, чтобы показать, как пишется роман. «Двигатель» на уровне Означаемого 1 — «корысть», но, как говорит Герман, «уж так ли мне было важно получить эту довольно двусмысленную сумму?» Нет, конечно. Важно было ему написать совершенный рассказ, безукоризненно продуманный, — это и есть «двигатель» на уровне Означаемого 2. Проблема заключается в том, что Герман пишет не один, и в построение его рассказа вмешивается другая инстанция, которая за него принимает решения. Эта инстанция здесь таится за памятью, по которой он пишет. Но, как это бывает с гоголевскими рассказчиками, память у него не очень надежная: «…или, напротив, память моя, пишущая за меня, не могла иначе поступить, не могла — будучи до конца правдивой — придать особое значение разговору в кабинете у Орловиуса (не помню, описал ли я этот кабинет)» (506). Как мы знаем по всем высказываниям Набокова на эту тему, память — особое отношение к прошлому, она создает особый автономный мир, который при нормальных условиях становится миром произведения и к которому «реальный мир» уже не имеет никакого отношения. Мир этот не