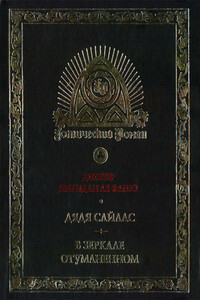Литература как таковая. От Набокова к Пушкину | страница 51
Будучи неудачным манипулятором, Герман не способен построить правильный образ своего двойника, и это объясняет его нелюбовь к зеркалам (напоминающую фобию зеркал у Дориана Грея), о которой он говорит дальше: «Хуже было то, что я никак не мог привыкнуть к зеркалам» (505). Мотив «зеркала» и другие с ним сходные по метафорическому значению, как отражение в воде, или дальше в этом отрывке «отражение в темном стекле», или «собственная тень», изобилуют в «Отчаянии», подкрепляя не только тему «сходства», но и зеркальную структуру всего произведения. И к этому как бы пространственному раздвоению сюжета можно прибавить еще и раздвоение сюжета по линии времени, выражающееся сквозным мотивом déjà-vu — ощущение, которое постоянно охватывает (раздвоенного) Германа. Все эти лейтмотивы сопровождают центральную тему двойника[122].
Ощущение déjà-vu постоянно охватывает и читателя: это связано с плотной сетью интертекстуальных ассоциаций. А интертекстуальность — один из возможных способов для литературы вести разговор «о себе». Здесь, в начале десятой главы, Герман вставляет свой рассказ в традицию всемирной литературы (тема двойника стара, как литература) и, в частности, русской литературы, цитируя фразу из «Преступления и наказания»: «„Дым, туман, струна дрожит в тумане“. Это не стишок, это из романа Достоевского „Кровь и Слюни“. Пардон, „Шульд унд Зюне“» (505). Тень автора «Преступления и наказания» («Old Dusty» в английском переводе!) витает над романом везде, намеками или реминисценциями, стилистическими оборотами (его обращение в этом отрывке к «господам» напоминает манеру речи героя «Записок из подполья»), или прямым, как здесь, упоминанием другого